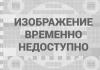Владимир набоковприглашение на казнь. Приглашение на казнь
Год написания:
1935
Время прочтения:
Описание произведения:
Приглашение на казнь – роман, написанный Владимиром Набоковым в 1936 году. На момент написание Набоков жил в Германии. Опубликовано же произведение было в первые во французском журнале. В СССР произведение было напечатано только в 1987 году. После того, как произведение стало доступно широкому кругу читателей оно стало восприниматься, как значительное в творчестве Набокова. Многие критики отмечали новые приемы, которыми пользовался Набоков при написании.
Краткое содержание повести
Приглашение на казнь
«Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом». Непростительная вина Цинцинната - в его «непроницаемости», «непрозрачности» для остальных, до ужаса похожих (тюремщик Родион то и дело превращается в директора тюрьмы, Родрига Ивановича, и наоборот; адвокат и прокурор по закону должны быть единоутробными братьями, если же не удается подобрать - их гримируют, чтобы были похожи), «прозрачных друг для дружки душ». Особенность эта присуща Цинциннату с детства (унаследована от отца, как сообщает ему пришедшая с визитом в тюрьму мать, Цецилия Ц., щупленькая, любопытная, в клеенчатом ватерпруфе и с акушерским саквояжем), но какое-то время ему удается скрывать свое отличие от остальных. Цинциннат начинает работать, а по вечерам упивается старинными книгами, пристрастясь к мифическому XIX в. Да еще занимается он изготовлением мягких кукол для школьниц: «тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других». Здесь же, в мастерской, Цинциннат знакомится с Марфинькой, на которой женится, когда ему исполняется двадцать два года и его переводят в детский сад учителем. В первый же год брака Марфинька начинает изменять ему. У нее родятся дети, мальчик и девочка, не от Цинцинната. Мальчик хром и зол, тучная девочка почти слепа. По иронии судьбы, оба ребенка попадают на попечение Цинцинната (в саду ему доверены «хроменькие, горбатенькие, косенькие» дети). Цинциннат перестает следить за собой, и его «непрозрачность» становится заметна окружающим. Так он оказывается в заключении, в крепости.
Услышав приговор, Цинциннат пытается узнать, когда назначена казнь, но тюремщики не говорят ему. Цинцинната выводят взглянуть на город с башни крепости. Двенадцатилетняя Эммочка, дочь директора тюрьмы, вдруг кажется Цинциннату воплощенным обещанием побега… узник коротает время за просмотром журналов. Делает записи, пытаясь осмыслить собственную жизнь, свою индивидуальность: «Я не простой… я тот, который жив среди вас… Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, - не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, - но главное: дар сочетать все это в одной точке…»
В крепости появляется еще один заключенный, безбородый толстячок лет тридцати. Аккуратная арестантская пижамка, сафьяновые туфли, светлые, на прямой пробор волосы, между малиновых губ белеют чудные, ровные зубы.
Обещанное Цинциннату свидание с Марфинькой откладывается (по закону, свидание дозволяется лишь по истечении недели после суда). Директор тюрьмы торжественным образом (на столе скатерть и ваза со щекастыми пионами) знакомит Цинцинната с соседом - м-сье Пьером. Навестивший Цинцинната в камере м-сье Пьер пробует развлечь его любительскими фотографиями, на большинстве которых изображен он сам, карточными фокусами, анекдотами. Но Цинциннат, к обиде и недовольству Родрига Ивановича, замкнут и неприветлив.
На следующий день на свидание к нему является не только Марфинька, но и все ее семейство (отец, братья-близнецы, дед с бабкой - «такие старые, что уже просвечивали», дети) и, наконец, молодой человек с безупречным профилем - теперешний кавалер Марфиньки. Прибывает также мебель, домашняя утварь, отдельные части стен. Цинциннату не удается сказать ни слова наедине с Марфинькой. Тесть не перестает упрекать его, шурин уговаривает покаяться («Подумай, как это неприятно, когда башку рубят»), молодой человек упрашивает Марфиньку накинуть шаль. Затем, собрав вещи (мебель выносят носильщики), все уходят.
В ожидании казни Цинциннат еще острее чувствует свою непохожесть на всех остальных. В этом мире, где «вещество устало: сладко дремало время», в мнимом мире, недоумевая, блуждает лишь незначительная доля Цинцинната, а главная его часть находится совсем в другом месте. Но и так настоящая его жизнь «слишком сквозит», вызывая неприятие и протест окружающих. Цинциннат возвращается к прерванному чтению. Знаменитый роман, который он читает, носит латинское название «Quercus»» («Дуб») и представляет собою биографию дерева. Автор повествует о тех исторических событиях (или тени событий), свидетелем которых мог оказаться дуб: то это диалог воинов, то привал разбойников, то бегство вельможи от царского гнева… В промежутках между этими событиями дуб рассматривается с точки зрения дендрологии, орнитологии и прочих наук, приводится подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Немало внимания уделяется музыке вод, палитре зорь и поведению погоды. Это, бесспорно, лучшее из того, что создано временем Цинцинната, тем не менее кажется ему далеким, ложным, мертвым.
Измученный ожиданием приезда палача, ожиданием казни, Цинциннат засыпает. Вдруг его будит постукивание, какие-то скребущие звуки, отчетливо слышные в ночной тишине. Судя по звукам, это подкоп. До самого утра Цинциннат прислушивается к ним.
По ночам звуки возобновляются, а день за днем к Цинциннату является м-сье Пьер с пошлыми разговорами. Желтая стена дает трещину, разверзается с грохотом, и из черной дыры, давясь смехом, вылезают м-сье Пьер и Родриг Иванович. М-сье Пьер приглашает Цинцинната посетить его, и тот, не видя иной возможности, ползет по проходу впереди м-сье Пьера в его камеру. М-сье Пьер выражает радость по поводу своей завязавшейся дружбы с Цинциннатом - такова была его первая задача. Затем м-сье Пьер отпирает ключиком стоящий в углу большой футляр, в котором оказывается широкий топор.
Цинциннат лезет по вырытому проходу обратно, но вдруг оказывается в пещере, а затем через трещину в скале выбирается на волю. Он видит дымчатый, синий город с окнами, как раскаленные угольки, и торопится вниз. Из-за выступа стены появляется Эммочка и ведет его за собой. Сквозь небольшую дверь в стене они попадают в темноватый коридор и оказываются в директорской квартире, где в столовой за овальным столом пьют чай семейство Родрига Ивановича и м-сье Пьер.
Как принято, накануне казни м-сье Пьер и Цинциннат являются с визитом ко всем главным чиновникам. В честь них устроен пышный обед, в саду пылает иллюминация: вензель «П» и «Ц» (не совсем, однако, вышедший). М-сье Пьер, по обыкновению, в центре внимания, Цинциннат же молчалив и рассеян.
Утром к Цинциннату приходит Марфинька, жалуясь, что трудно было добиться разрешения («Пришлось, конечно, пойти на маленькую уступку, - одним словом, обычная история»). Марфинька рассказывает о свидании с матерью Цинцинната, о том, что к ней самой сватается сосед, бесхитростно предлагает Цинциннату себя («Оставь. Что за вздор>, - говорит Цинциннат). Марфиньку манит просунутый в приоткрывшуюся дверь палец, она исчезает на три четверти часа, а Цинциннат во время ее отсутствия думает, что не только не приступил к неотложному, важному разговору с ней, но не может теперь даже выразить это важное. Марфинька, разочарованная свиданием, покидает Цинцинната («Я была готова все тебе дать. Стоило стараться»).
Цинциннат садится писать: «Вот тупик тутошней жизни, - и не в ее тесных пределах искать спасения». Появляется м-сье Пьер и двое его подручных, в которых почти невозможно узнать адвоката и директора тюрьмы. Гнедая кляча тащит облупившуюся коляску с ними вниз, в город. Прослышав о казни, начинает собираться публика. На площади возвышается червленый помост эшафота. Цинциннату, чтобы до него никто не дотрагивался, приходится почти бежать к помосту. Пока идут приготовления, он глядит по сторонам: что-то случилось с освещением, - с солнцем неблагополучно, и часть неба трясется. Один за другим падают тополя, которыми обсажена площадь.
Цинциннат сам снимает рубашку и ложится на плаху. Начинает считать: «один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета, привстал и осмотрелся». Палач еще не совсем остановился, но сквозь его торс просвечивают перила. Зрители совсем прозрачны.
Цинциннат медленно спускается и идет по зыбкому сору. За его спиной рушится помост. Во много раз уменьшившийся Родриг безуспешно пытается остановить Цинцинната. Женщина в черной шали несет на руках маленького палача. Все расползается и падает, и Цинциннат идет среди пыли и упавших вещей в ту сторону, где, судя по голосам, стоят люди, подобные ему.
Вы прочитали краткое содержание повести "Приглашение на казнь". Предлагаем вам также посетить раздел Краткие содержания , чтобы ознакомиться с изложениями других популярных писателей.
1934 год на нашем календаре, и мы поговорим о романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь».
Тут сразу два момента, которые делают наш разговор недостаточно легитимным. Во-первых, мы договорились, что все-таки наша основная тема - это книги, написанные в России. Но поскольку литература русской диаспоры так или иначе давно уже входит в золотой, не побоюсь, фонд русскоязычных текстов, было бы, наверное, неправильно пренебрегать романом Алданова «Самоубийство», романами Набокова, романами Газданова, наверное, неправильно было бы игнорировать «Темные аллеи» Бунина, поскольку все равно ничего более важного в этот период на русском языке не появлялось. Поэтому мы постепенно начинаем привлекать русскую литературу, написанную в зарубежье, к нашему основному корпусу. Ну и естественно второй вопрос связан с тем, что трудно установить основную дату написания «Приглашения на казнь». Роман вчерне был закончен в 1934 году, доведен до ума в 1935, напечатан вообще в 1938, поэтому публикация «Приглашения на казнь» это довольно сложная отдельная история. Но тем не менее мне представляется очень важным, что Набоков основной корпус этого романного текста, очень небольшого, кстати, это, вероятно, самый маленький из его парижских и вообще эмигрантских романов, немецких кстати, он еще написан в Германии, из всего этого корпуса это самый маленький и самый стремительно написанный роман, сочинен он был за три дня. Те обстоятельства, которые предшествовали его рождению, довольно, в случае Набокова, загадочны.
Набоков был вообще единственным русским писателем, который реагировал на вызовы стремительно, и реагировал на них творческими взлетами. В 1934 году у него было два обстоятельства, которые чуть не свели его с ума: во-первых, Вера рожает в мае, и рожает она довольно тяжело, поскольку это поздний ребенок, ей действительно к этому моменту 33 года, они с Владимиром достаточно долго откладывали его рождение, рождение будущего Дмитрия, потому что денег не было. В какой-то момент им сказали, что дальше рисковать они не могут, потому что она может просто умереть во время родов, и они решают завести ребенка. А второе обстоятельство, как вы помните, 1934 год, уже в Германии фашизм, причем пришедший к власти совершенно демократическим путем, уже на всю Европу набегает страшная тень.
И как раз когда Набоков возвращается в 1934 году по майской улице, оставив Веру в роддоме, у него зарождается мысль о романе «Приглашение на казнь». Здесь путь от замысла до воплощения оказался стремительным. Первый карандашный стостраничный вариант романа был написан буквально запоем в ближайшие три дня. Можно сказать, что Набоков таким образом отвлекался от мучительной тревоги за жену и ребенка. А можно сказать, что это был его способ противостоять обстоятельствам. Потому что Набоков, потомственный дворянин и очень высоко это дворянство ценивший, очень высоко опять-таки ценит и рыцарственный кодекс поведения - надо отвечать ни рефлексией, ни страхом, ни дрожью, а действием.
Вот его роман «Приглашение на казнь» - это страшный, жестокий, развенчивающий ответ на все то, что происходит в это время в Германии. Это одна из самых страшных, и в то же время одна из самых смешных книг Набокова, потому что уже спустя четыре года в «Истреблении тиранов», очень важном для него рассказе, он говорит, что единственным способом бороться со страхом остается смех. Но тем не менее, не только в смехе дело, впервые этот смех у Набокова носит такой мрачный, сардонический и циничный характер. Когда Набоков читает в русских литературных салонах первые главы «Приглашения на казнь», он впервые в жизни сталкивается с массовым неодобрением. Он, избалованный восторгами публики, он, после «Защиты Лужина» провозглашенный наследником Бунина, оправданием нового поколения русских писателей, выслушивает отзывы типа «это шизофрения» и «это садизм». И действительно, в «Приглашении на казнь», как в будущем потом романе Bend Sinister, тоже некоторые элементы садизма по отношению к читателю присутствуют, конечно. Здесь Набокову нужно исчерпать, доскрести до дна собственную ненависть, омерзение, страх, и этого добра здесь очень много, это жестокий роман.
Ну и нечего говорить о том, что роман этот давно разобран по косточкам бесчисленными славистами, и в общем, из всех книг Набокова, если не считать «Дара», это самое разбираемое, самое интерпретируемое его произведение. Это роман-сказка, что важно. В ХХ веке несколько было таких прелестных жестоких сказок. Рядом с ним можно поставить, например, роман-антиутопию Веры Пановой «Который час».
Ничего общего, конечно, не имеет эта книга ни с Кафкой, которого часто прочили Набокову в учителя, на тот момент он «Замка» еще не читал, тем более давайте не забывать, что Набоков по-немецки не читает, а переводы «Замка» на английский появились позже. «Замок», конечно, имеет некоторые сходства, прежде всего по своей сновидческой кошмарной конструкции, такой nightmare, как собственно, Честертон обозначил когда-то жанр «Человека, который был четвергом». Но это не просто кошмар, кошмар, во всяком случае, не кафкианский, кошмар гораздо менее серьезный, в каком-то смысле гораздо более насмешливый, ну и в общем, гораздо более жизнерадостный, как это ни ужасно звучит. Параллели же с романом Оруэлла «1984» вообще смешны, поскольку, как вы знаете, он был написан 12 лет спустя.
Соответственно, единственный источник, более-менее близкий, который можно было бы, наверное, указать, это роман Замятина «Мы», о котором мы, в общем, говорили. Идея романа «Мы» здесь отозвалась в образе вот этого прозрачного мира, всеобщей прозрачности, Цинциннат обвинен в гносеологической гнусности, он непрозрачен для окружающих. Помните, что в мире Замятина все живут с прозрачными стенами, и опустить занавеси можно только на сексуальный час. Вот это единственное, чем исчерпывается сходство.
На самом же деле Набокову каким-то образом удалось предсказать мир постмодерна, и по большому счету, главное набоковское открытие заключается в том, что он рассматривает фашизм как высшую стадию постмодернизма. Постмодернизм - это мир, где все равно, где утрачены все оппозиции и все смыслы, где у людей не осталось базовых понятий. Вот такие очевидные нормы, как сострадание, эмпатия, любовь, восхищение, такие необходимые вещи, как культура, как милосердие, как закон - все это упразднено. И не случайно в этом романе появляются такие ватные куклы - Пушкин, Лермонтов, вот это все, что осталось от классиков. Этими куклами дети играют в школах. Это мир выхолощенный, вот что очень страшно.
По Набокову, самое страшное, это не тоталитаризм, с тоталитаризмом можно бороться. Самое страшное - это иссякание смысла, это мир, в котором ничто ничего не значит, и все равно всему. Это мир тупости торжествующей, и это мир торжествующего обывателя, то, что очень скоро в романе Bend Sinister 1947 года будет названо скотомизацией, там есть такой мыслитель Скотома, который провозгласил ценность простого человека, героя по фамилии Заурядов, господин и госпожа Заурядовы. Вот идея «заурядности торжествующей», это я цитирую, как вы понимаете, перевод Сергея Ильина, но он довольно точен, идея торжествующей скотомизации, превращения в скот, в страну обывателей, в мир, где нет различий - вот это для Набокова самое страшное.
Вы знаете, что одна из главных полемик XX века, это полемика вокруг такого тезиса Честертона, он говорит, обыватель - лучшая сила в обществе, он надежно стоит на пути у всяких революций и всякого тоталитаризма. Но тут вдруг оказалось, что обыватель - это и есть тоталитаризм, что обыватель - это оптимальная среда и главное сырье для любого фашистского переворота. Почему? Да потому, что ему присущ культ нормы, культ заурядности. И именно этот культ лежит в основе фашизма. Не нужно думать, говорит Набоков, что в основе фашизма лежат героические мифы, фашизм же старательно рядится всегда в Зигфрида, понимаете, нибелунги, Вагнер, Ницше, великие имена. Да ничего подобного! Ну какой там Зигфрид? Это обыватель, с брюшком, с лысинкой, в халате, самодовольный. А иногда он рядится в пролетария, неважно. Важно, что это человек, чьи представления заурядны. Это человек, которому чуждо сочувствие и чужда любовь, лишь бы не трогали. Вот это и есть обыватели, те самые люди, которые населяют будущий набоковский рассказ «Облако, озеро, башня».
Они всегда затаптывают кого-то, потому что этот кто-то один, создает им необходимое ощущение родства и единения. Травля - ничто без этого теплого чувства единения, и поэтому городу надо убить Цинцинната. Цинциннат ни в чем не виноват, но, уничтожая его, остальные горожане чувствуют себя правильными. В этом мире настолько нет никакого сострадания, что смерть обставлена массой комических и унизительных моментов. Перед тем, как Цинцинната казнить, на сцену выскакивает герольд и радостно сообщает, что получена большая партия мебели, и предложение может не повториться. А в театре с блестящим успехом злободневности идет премьера оперы Фарса «Сократись, Сократик».
А рядом одновременно Марфинька улаживает свою личную жизнь, Марфинька это жена, уже чувствующая себя вдовой, жена Цинцинната. Марфинька это тоже очень интересное существо, ведь Цинциннат страстно тяготеет к Марфиньке, он ее любит, он ее романтизирует, он вспоминает ее грудь с «земляничным соском», ее холодные поцелуи со вкусом лесной земляники. Она очень много для него значит, но Марфинька - это кукла, это фетиш, муляж. И то, что можно к кукле испытывать сексуальное влечение, мы знаем еще с гофманов ского «Песочного человека», но знаем мы и то, что эта кукла лишена милосердия, сострадания, она лишена ужаса перед жестокостью. Помните, когда она сынку своему, калеке, злобному уродцу, говорит: «Оставь моментально кошку, ты одну вчера уже задушил, нельзя же каждый день». Но это смешно все, конечно. И смешон цинциннатовский тесть, который долго и со смаком Цинцинната проклинает, по написанному, произнося традиционный монолог, начинающийся со слов: «Сдается мне, что я просто-напросто старый болван». Ну, все они куклы, все они заводные герои, заводные герои кукольного театра.
Цинциннат - единственное живое существо, потому что в этом мире уродцев, в мире полулюдей, в мире торжествующих недочеловеков, которые провозгласили себя сверхчеловеками, он единственный, кто не утратил любви, милосердия, попыток творчества, потому что ему все время кажется, что надо кое-что дописать, хотя все уже дописано.
Естественно, ключевой вопрос романа, во всяком случае, вопрос для его интерпретаторов, мы привыкли, нам хочется, чтобы нам в конце романа, по крайней мере, объяснили, жив герой или мертв. На протяжении всей книги мы сталкиваемся со сложной системой обманок. Сосед по камере оказывается будущим палачом, сторож тюрьмы оказывается ее директором, день казни постоянно переносится. В общем, сама казнь оборачивается площадным фарсом, когда директор тюрьмы, встречая Цинцинната, говорит: «Превосходный сабайон», угощая его ужином с личной кухни, но совершенно ничего не говорит о дате смерти. В общем, это система обманок, система фальшивых ходов.
Самым обидным из них, конечно, оказывается, мы сейчас об этом поговорим отдельно, ход с Эммочкой, дочерью начальника тюрьмы, которая подстраивает Цинциннату побег только для того, чтобы привести его в святая святых этой тюрьмы, в дом к ее начальнику. Но при этом, вот в этой системе обманок нам все-таки хочется знать главное, будет ли казнен Цинциннат. Потому что, хотя и тюрьма фальшивая, и правила в ней фальшивые, помните, там в правилах написано, что дирекция не отвечает за исчезновение каких-либо вещей, в том числе и самого узника. То есть все насмешливо, все пародийно, но смерть-то настоящая, и страх смерти-то настоящий. И Цинциннат от этого страха все время сходит с ума и все время с ним борется. Отсечение головы представляется ему чем-то вроде выворота огромного зуба, который удаляет дантист. Ему все время кажется, что всадник, он пишет, не отвечает за дрожь коня. Действительно, душа не отвечает за дрожь и страх тела.
Так вот, как же заканчивается роман? Что же, собственно, там происходит? Вот об этом спорят абсолютно все читатели, потому что что на самом деле написано? Написано, что в какой-то момент, когда палач уже начал раскручиваться, чтобы нанести удар, Цинциннат вдруг поднимает голову, осматривается, видит, что все уже никуда не годится, что деревья с фальшивой тенью для иллюзии круглоты уже падают, что рвется сценический задник, «летела сухая мгла, и сквозь вихрь Цинциннат пошел туда, где, судя по голосам, находились подобные ему».
Вот этот мощный, совершенно оркестровый финал, трубные голоса, оставляют нас, тем не менее в полном недоумении. Мы не понимаем, что случилось с Цинциннатом. По-первых, блевал бледный библиотекарь, замечательная фраза. С чего бы это он блевал, сидя на ступеньках эшафота? Родриг Иванович подбегает к Цинциннату, крича, «ведь вы уже лежали, все было хорошо, все было кончено» - и это аргумент для противной стороны, как бы если Цинциннат встал и пошел, значит, он жив. А если летела сухая мгла, это может означать, с одной стороны, то, что рухнул мир, но и с другой стороны, рухнула жизнь героя. Тут, в общем, опять-таки возможны полярные трактовки.
Мы, в результате этого романа, самого обманного у Набокова, остаемся в полном неведении, что случилось. Но Набоков всегда говорил, что для стоящего писателя это не важно, для него важны приемы, важна мысль, важно, что он абсолютное божество в книге, и Цинциннат, в конце концов, такая же кукла, как и все остальные герои. Но, как мы понимаем, такое объяснение входит в противоречие с авторской идеей - Цинциннат единственный живой из всех этих персонажей. Мы хорошо помним его светлые пушистые усы, помним, как он смотрит на свои большие пальцы и говорит «вы-то милые, вы-то ни в чем не виноваты». Мы помним, как он пишет, как он дружит с пауком, как он падает в обморок, и мы не желаем Цинцинната признавать куклой писательского воображения. Он для нас живой, точно так же он единственный живой в книге. Поэтому нам приходится сделать, вместе с Набоковым, единственно возможный, и к сожалению, неутешительный вывод - Цинциннат безусловно погибает, и именно его смерть становится условием его освобождения.
Потому что в мире, который нарисовал Набоков, существа, подобные ему, единственные существа, подобные ему, могут существовать только на другом плане реальности, только вне жизни. Когда человек покидает мир, мы это помним хорошо по «Дару», у него словно открывается не один глаз, а все глаза, он словно начинает смотреть во все стороны, вырвавшись из клетки тела. И безусловно, вот эта заветная набоковская мысль о том, что после смерти наступает другая реальность, которую он провидит иногда, потусторонность, о которой написано его последнее стихотворение, вот это, пожалуй, мысль наиболее важная. Не случайно герои романа «Ада» живут не некоей планете Антитерра, где все иначе, где другая география, другая физика, и они все время обдумывают вопрос, существует ли Терра, существует ли Земля. Для героев Набокова очень важно, что существует второй мир, «о, поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна». Этот другой мир безусловно существует, но для того, чтобы в него попасть, Цинциннат обязан покинуть свою тюрьму, а тюрьма это, конечно, более широкий образ земного существования.
Под конец нужно, конечно, несколько слов сказать про Эммочку. Значит, Эммочка - прообраз Мариэтты из Bend Sinister, прообраз Лолиты, конечно, и здесь впервые обозначена у Набокова одна из его заветных тем, очень важных тем, тема связи между педофилией и тюрьмой. Сколько бы ни говорили, что «Лолита» это роман педофильский, конечно, это антипедофильский роман, и в общем, педофилия здесь не более, чем метафора. Это метафора мании, которую можно победить, метафора соблазна, которому надо сдаться, и тогда наступит освобождение. Но освобождение не наступает, наступает еще более глубокая тюрьма. Это, по Набокову, метафора всех революций, поддавшись соблазну, мы загоняем себя еще глубже в подвал. В тюрьме пишется «Лолита», там оказывается Гумберт, в еще более глубокую тюрьму попадает Цинциннат, попав к начальнику. Ну и, собственно, в Bend Sinister попытка Мариэтты соблазнить Круга заканчивается тем, что и сын Круга, и сам он оказываются в лапах у так называемых «гимназических бригад», сокращенно ГБ. То есть, по Набокову, тема соблазна и тема тюрьмы очень тесно связаны. Те, кто надеется преодолеть соблазн, поддавшись ему, на самом деле загонят себя еще глубже в клетку.
Замечательная, на самом деле, мысль Набокова о том, что со временем Уайльд будет восприниматься не как эстет, а как сентиментальный сказочник, она применима и к нему самому. Конечно, «Приглашение на казнь» произведение бесконечно эстетское. Но при этом нет у Набокова более страстного, более одинокого, более умоляющего текста. Я думаю, что одним из стимулов его появления было желание как-то задобрить судьбу, показав богу максимум своих способностей. Это вот что ли, «посмотри, как я умею, и может быть, теперь ты нас пощадишь». И действительно, после этой жертвы, которую он за три майских дня и ночи принес, Вера благополучно родила. Сын родился прекрасным, счастливым, и они спаслись, и успели потом уехать из Германии во Францию, из Франции в Америку. Набоков сумел отвести беду, написав самый страшный и самый откровенный роман о ней.
Можно сказать, что эта книга мрачна. Но пусть нас утешит эпиграф к ней, эпиграф из Пьера Делаланда, которого пришлось Набокову придумать: «Как сумасшедший мнит себя Богом, так люди полагают себя смертными». Это прекрасная мысль, и жаль, что этого мыслителя Набоков выдумал. Но суть «Приглашения на казнь» безусловно верна, приглашения на казнь, которыми так щедро обставлена наша жизнь, это приглашения к бессмертию. И вот в этом замечательный оптимистический вывод Набокова.
Тут поступил вопрос о том, в какой степени адекватен перевод «Приглашения на казнь», который выполнен Дмитрием Набоковым. Ну, во-первых, он не совсем выполнен им. Он выполнен ими двумя. И именно Набокову принадлежит перевод названия, не Invitation to an Execution, а Invitation to a Beheading, «Приглашение к обезглавливанию», что для него очень принципиально, очень важно. Что касается качеств, достоинств этого перевода, понимаете, какие-то вещи там непереводимы. Например, ударили часы, и их отгул, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Я очень был разочарован, узнав, что многие блистательные набоковские каламбуры в этом романе совершенно утрачены. Но это, понимаете, принципиальная набоковская установка. Он считал, что переводить надо точно, и поэтому многие созвучия, вот эти каламбуры - это его любимое развлечение - они утрачиваются, ничего не поделаешь. Вот точно так же утрачены в «Лолите», очень хорошо написанной по-английски, множественные, прекрасные каламбуры, стишки, внутренние рифмы, а прибавленные очень немногочисленны и довольно дурного тона. Ну например, когда Гумберт лежит рядом с уснувшей Лолитой, и говорит: «Мне некуда было приклонить голову, не говоря уже о головке». Это, конечно, каламбур, прямо скажем, гимназический, но он производит впечатление. В оригинале его нет, потому что в оригинале нет повода для каламбура.
В целом же надо оценить этот перевод как один из последних набоковских творческих подвигов, потому что донести так точно саму издевательски-мрачную макабрическую атмосферу «Приглашения на казнь», конечно, Дмитрий Владимирович не смог бы в одиночку. Во время нашей с Дмитрием Владимировичем единственной встречи он недвусмысленно заметил, что всеми литературными талантами он уже точно обязан отцу.
Главный герой романа Цинциннату Ц., который всегда ощущал собственное отличие от других людей. Он является «непроницаемым» и «непрозрачным», тогда как остальные люди в этом мире похожи один на другого и являются прозрачными. Причем они прозрачны и фактически (автор часто описывает как через персонажей может нечто просвечивать или как они становятся практически прозрачными) и в смысле душевного устройства, герой живет в мире «прозрачных друг для дружки душ».
Цинциннат на протяжении длительного времени скрывает свою особенность от остальных, он читает старинные книги мифического (для его времени) 19 века и делает в мастерской мягкие куклы русских писателей. В Мастерской он знакомиться с Марфинькой, которая становится его супругой и с первого года начинает изменять. Он начинает работать в детском саду педагогом, ведет группу детей с отклонениями.
Марфинька рождает двух детей не от него, мальчик хромой, девочка практически слепа и они оказываются в его группе детского сада. Цинциннат перестает за собой следить и его особенность узнают другие, он заточен в крепость.
Узнику не говорят, когда назначена казнь, он сидит в камере, читает журналы, пишет, осмысливает собственное существование, отличие от других. Свидание с Марфинькой откладывают, но директор тюрьмы (Родриг Иванович, который то становится тюремщиком Родионом, то наоборот) торжественно знакомит Цинцинната с соседом месье Пьером, безбородым толстячком тридцати лет. Пьер пытается развлечь своего соседа фокусами, своими фото, анекдотами.
Днем на свидание является вся семья и Марфинька тоже со своим новым кавалером. Также с ними приезжает домашняя утварь и мебель. После визита носильщики выносят этот антураж.
Цинциннат в заключении читает лучший роман своего времени под названием Дуб. Книга описывает биографию дерева, события которые были поблизости от него, а также биологию самого дуба, природные феномены и подобное.
Герой ожидает палача, но засыпает и слышит в ночи, как ему кажется, звуки подкопа. Ночами он продолжает слушать эти звуки, днями видит Пьера, который пытается развлечь его всякими пошлостями. В итоге желтая стена его камеры трескается, из подкопа вылезают Родриг Иванович и Пьер, они смеются, в итоге все переползают в соседнюю камеру Пьера.
Цинциннат уползает оттуда, ползет по ответвлению пещеры, выбирается на волю, видит город, появляется дочка директора тюрьмы Эммочка и приводит Цинцинната в свой дом, где за столом сидит семейство Родрига Ивановича и месье Пьера. Такова традиция, приговоренные посещают всех чиновников.
Марфинька приходит утром к герою, рассказывает о соседе, который к ней сватается и предлагает Цинциннату себя, тот отказывается. Тогда из-за двери девушку манит палец, она уходит почти на час. Цинциннат хочет сформулировать какую-то мысль, которую нужно сказать Марфиньке, но мысль ускользает, девушка возвращается и разочарованно оставляет героя.
Пьер и Цинциннат едут в телеге на гнедой кляче в город, собирается публика. На лощади возвышается эшафот, для того чтобы его не трогали из толпы Цинциннату нужно передвигаться туда практически бегом. Герой осматривается в ожидании казни, повсюду какие-то странности небо трясется о падают тополя.
Он ложится на плаху, сняв рубаху, начинает считать, но «один Цинциннат считал, а другой Цинциннат.. привстал и осмотрелся». Торс палача просвечивает, зрители прозрачны.
Цинциннат спускается, сзади рушится мост, уменьшившийся Родриг Иванович пытается его остановить, женщина в черном несет маленького палача. Видимый мир падает и расползается. Сквозь пыль герой направляется в сторону голосов, вероятно, голосов принадлежащих людям, таким же как он.
Картинка или рисунок Приглашение на казнь
Другие пересказы для читательского дневника
- Краткое содержание В ожидании Годо Беккет
Эта пьеса абсурда, в которой намеренно нет смысла, логических связей. Герои всё ждут какого-то Годо на дороге. Мимо них проходят люди, что-то происходит – отрывочное и непонятное (то ли в этом есть глубокий смысл, то ли смысла нет совсем)
- Краткое содержание Оперы Евгений Онегин Чайковского
Летний день в давно забытой деревне. В поместье принадлежащим Лариным кипит работа. Хозяйка в достаточно запущенном саду варит варенье, ей помогает старенькая женщина няня ее дочерей
- Краткое содержание Цвейг Амок
Случилось это в 1912 году. Главный герой – врач, получивший образование в Германии и практиковавший в Лейпцигской клинике.
- Краткое содержание Чехова Налим
Случай нелепый, казусный. Пять мужиков долгое время ловили и упустили в воду налима. Улыбаться начинаешь уже с первых строк. Колоритные плотники Любим и Герасим посланы строить для барина купальню в реке
- Краткое содержание Конрад Сердце тьмы
Главный герой произведения некий Чарльз Марлоу. Он одно время работал на судне капитаном. Судно принадлежало компании по добыванию слоновой кости. Он рассказывает приключившуюся с собой историю
Роман Владимира Набокова «Приглашение на казнь», на мой взгляд, один из самых интересных текстов русской, а возможно, и мировой литературы. Текст-символ, текст-притча, текст-шарада, наполненный множеством символических деталей, сам по себе являющийся развернутой системой символов. Роман этот – философия, лишенная дидактизма, метафизика, раскрывающаяся через игру. Игра здесь во всем, она буквально пронизывает текст – от сюжетной фабулы до имен персонажей, от выстраивания композиции до многочисленных каламбуров и языковых ребусов и парадоксов, постоянно встречающихся в тексте на протяжении всего романа.
Мне кажется, что роман Набокова наследует, с одной стороны, литературе сказочной, построенной на игре, как, например, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле или «Алиса в Зазеркалье» Кэрролла, а с другой стороны – таким философским, притчевым произведениям современного Набокову модернизма, как «Замок» Франца Кафки.
Рассмотрим «Приглашение на казнь» с точки зрения философии и игры, заложенной и обусловленной символикой романа, и попытаемся дать свои интерпретации заложенным в тексте символам, не претендуя на оригинальность и всеохватность в рамках небольшой работы. Кроме того, попытаемся увидеть взаимосвязи романа с другими произведениями мировой литературы, на которые в тексте Набокова существует множество аллюзий.
Начинается роман с того, что главному герою объявляют смертный приговор. Причем, первые слова первой главы – «сообразно с законом». Затем автор сообщает, что «правая, еще непочатая часть развернутого романа… вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей». Игра начинается. С одной стороны, речь идет непосредственно о тексте, в котором, едва начав, мы «подбираемся к концу». С другой - о жизни героя, Цинциннате Ц., приговоренному к смертной казни и заключенному в одиночную камеру темницы. Можно сказать, что здесь задается та система координат, которую мы будем видеть на протяжении всего произведения, - сложная и тесная взаимосвязь того, о чем повествует художественный текст и того, что за этим текстом стоит. Иными словами, читатель вовлекается в такую игру, где трудно сказать, что относится к содержанию романа, а что – к отношению автора и читателя к этому содержанию.
Если вспомнить Борхеса с его четырьмя сюжетами в мировой литературе, то можно сказать, что в основе «Приглашения на казнь» лежат три из них. Самоубийство бога или героя – потому что смертный приговор Цинциннату и приведение его в исполнение – это, в одном из прочтений, то, что происходит внутри в его сознании и нигде кроме. Штурм и оборона крепости – потому что герой именно тем и занят на протяжении всего действия, что штурмует свою темницу, свою внутреннюю одиночную камеру, которая в финале романа рушится, оборачиваясь картонной декорацией. Притом штурмует ее Цинциннат, естественно, изнутри. Все остальные герои заняты обороной своей бутафорской крепости. И, наконец, возвращение домой, как главный мотив произведения. Если же учесть, что Борхес называл сюжет путешествия одной из разновидностей сюжета о возвращении домой, то получается, что по его классификации в «Приглашении на казнь» присутствуют все основные сюжеты мировой художественной словесности. Кроме того, что представляет собой весь жизненный путь Цинцинната Ц., как не путешествие в чужую страну, в чуждый ему космос с последующим долгожданным возвращением-пробуждением.
Все вышеизложенное имеет смысл рассмотреть подробнее и пристальней.
Что такое в контексте романа смертный приговор, да еще и объявленный шепотом? Это, на мой взгляд, сама жизнь героя. Рождение человека в этом мире, неизбежно завершающееся в этом мире смертью. Вообще, вся концепция происходящего с Цинциннатом Ц. двояка. С одной стороны, то, что разворачивается перед нами на страницах романа, это драма одиночества, драма жизни человека, отличающегося от добропорядочного большинства и не вписывающегося в рамки общества. С другой – гораздо шире и глубже – это трагифарс, происходящий с человеком, сознающим, что он только гость, странник в этом мире, где все оборачивается театральной бутафорией, вплоть до других людей, этого сознания не имеющих, и живущих лишь здешним и материальным. Сказать, где начинается одно, а где другое в тексте романа – практически невозможно. Границы внешнего и внутреннего довольно условны, сон перетекает в явь, а явь становится навязчивым сновидением, из которого ищет выход главный герой романа. Эта тема – одна из главных в европейской литературе первой половины 20 века. Ее глубоко и блестяще разрабатывали Кафка, Камю, Сартр, ОБЭРИУты в СССР.
Сложно сказать, есть ли на самом деле город, крепость с темницей, палач, приговор, или это все происходит внутри героя. Впрочем, на самом деле, это не так уж и важно. Какая разница – в глубинном, метафизическом смысле – является ли смертный приговор делом рук внешних сил, городских властей, или же он объявлен и приведен в исполнение в сознании Цинцинната, - суть происходящего от этого не меняется. В «Приглашении на казнь» на мой взгляд, не однозначности. Исходя из этой мысли, мы тоже не будем вносить этой однозначности, искажая содержание романа своими определенными интерпретациями. Попробуем только лишь посмотреть, наметить возможные пути, по которым может двигаться мысль и чувство, при желании решить задачи и разгадать загадки, оставленные нам Набоковым.
Почему приговор объявляют шепотом? Наверное, потому что так удобней. Спокойней и безопасней для судьи и тех, чьи интересы он представляет. Кроме того, смертный приговор еще и личное дело того, кто приговорен, поэтому сообщение его шепотом на ухо – вполне логично и оправданно. В этом есть даже некое безличное милосердие.
Интересен появляющийся с самого начала «какой-то добавочный Цинциннат». Его не существует в реальности, его не видят окружающие, да и сам Цинциннат Ц. знает, что этого двойника – нет. Но в то же время этот второй Цинциннат говорит то, о чем молчит Цинциннат настоящий, делает то, что хотел бы сделать иной раз его оригинал. Можно сказать, что этот «призрак» - психологическое явление, точнее, прием, олицетворяющий это явление. Прием этот, кстати, стал довольно популярным в кинематографе – когда герой совершает какие-то действия, обусловленные его желаниями, а потом мы видим, что на самом деле герой просто хотел бы сделать так, и действие совершается только в его грезах. Но, если следовать идее двоемирия, пронизывающей текст романа, то этот двойник Цинцинната оказывается вполне реальным и логически оправданным персонажем. Какое объяснение ближе к авторскому замыслу, мы не знаем. Думаю, Владимир Набоков добродушно улыбался бы, читая эти попытки интерпретировать его роман.
Итак, приговор объявлен, осужденного заключают в темницу, находящуюся в крепости на высокой скале. Здесь есть игра со штампами романтической литературы, здесь есть аллюзия на Мцыри. Но я думаю, что важнее взаимосвязь с замком. Тем самым замком, куда никак не мог попасть Землемер в последнем неконченом романе Франца Кафки. Герои обоих романов чем-то похожи. Оба они оказались в таком мире, когда вокруг скорее не живые люди, а некие функции, неспособные на настоящее общение и взаимопонимание. Что, если предположить, что крепость, куда заключают Цинцинната, если не тот самый замок, куда так стремился Землемер, то, по крайней мере, находится в родственных связях с этим замком. Хотя, чтобы утверждать это наверняка, у нас нет никаких оснований. Кроме, разве что, тех, что и крепость, и замок весьма труднодоступны и находятся на возвышении, и селение, где живут люди, оказывается у их подножия. Помимо этого, и распоряжения, приходящие из замка и распоряжения, отдающиеся внутри крепости, весьма алогичны. С другой стороны, в замок у Кафки очень трудно попасть, и вся власть сосредоточена именно в нем. У Набокова путь в крепость и из нее оказывается на удивление легким, а приказы отдаются «снизу», из города.
Одиночная камера как символ одиночества, отсутствия взаимопонимания, отчуждения в мире – довольно благодарный образ. Это своего рода развернутая метафора, притча об одиночестве человека в этом мире.
Думаю, что трактовать этот символ можно на нескольких уровнях одновременно.
На уровне социальном, как отчуждение в обществе «добропорядочных граждан», блюдущих исключительно свои собственнические корыстные интересы, когда никому ни до кого нет дела, и в то же время, все зорко и ревностно следят, чтобы никто не выходил за негласные рамки этого социума. Здесь мы видим не столько модель тоталитарного общества, сколько, скорее, модель общества мещанского, обывательского, стерильного в своем ненасытном стремлении умеренного однообразия. То, о чем писали Гессе, Сартр, Пристли, Бредбери. На самом деле, такое общество и есть тоталитарное, и именно оно готовит наилучшую почву приходу очередного диктатора. Это самое общество и судит Цинцинната Ц. за «гносеологическую гнусность», а именно – «непрозрачность». Характерно, что никто не желает говорить прямо, за что именно осужден герой. Более того, видно, что никто и не в состоянии это сформулировать хотя бы внутри себя. При этом всем все понятно, как обществу, так и самому осужденному.
История жизни Цинцинната оказывается историей того, как человек пытается найти свое место в чужом ему мире. Убеждаясь в безуспешности и ненужности этого поиска, герой учится маскировке, своеобразной мимикрии, ложной «прозрачности». При этом ему всегда приходится быть начеку, находясь среди других людей. И вот, после разочарования в семейной жизни, в любимой женщине, Цинциннат Ц. ослабляет контроль над собой, теряет бдительность и оказывается уличенным в своей гибельной «непрозрачности». В своем тотальном отличии от окружающих его граждан. За что в итоге и оказывается осужден на смертную казнь через отсечение головы. Что так же символично, ибо именно в этой голове и содержится причина его «непрозрачности», именно то, что внутри этой головы происходит и отличает ее обладателя от остальных людей. Которые приговаривают его к смерти.
Стоит сказать пару слов о мире кукол – увлечении, которым на какое-то время забылся Цинциннат, найдя убежище в этом чуждом мире. Однако довольно скоро он понимает, что убежище это – так же иллюзорно и бессмысленно, и оставляет это занятие.
Здесь мы уже невольно коснулись другого уровня толкования символа одиночного заключения, уровня психологического. Цинциннат Ц. с детства отличался от своих сверстников интересами, интенсивной внутренней жизнью, преобладающей над внешней, и в этом была одна из главных причин отчуждения. Человек, отличный от большинства из своего окружения интересами, внутренней расстановкой сил и приоритетов в жизненной игре, рано или поздно оказывается вынужден осознать свою отчужденность от большинства, свое непопадание в общий ритм – так как его внутренняя мелодия звучит иначе, в иной тональности.
Следующий уровень раскрытия данного символа – философский, метафизический. Человек, который не занят сиюминутной, ненужной суетой, сталкивается с осознанием того, что принадлежит он по праву истинного рождения к совсем иному миру. Миру по ту сторону здешнего времени и пространства. Можно сказать, что это – Царствие Небесное, тот самый другой, настоящий мир, в отличие от иллюзорного и необязательного – мира сего. Сей мир оказывается ловушкой, в который попадает герой, причем обусловлен этот мир опять же миром внутренним, разворачивающимся в сознании человека. В конце концов выясняется, что вся «ложная логика вещей», присущая этому миру, провоцируется и вызывается к действительности страхом смерти – коренным человеческим страхом, с которым герой сражается на протяжении всего действия.
Мы видим, что не только человек, отличный от других, и не только в таком обывательском, стерильном социуме, а вообще любой человек в любом обществе – чужой. Потому что он чужой в этом мире, являясь гражданином мира иного, и постоянно находясь в состоянии возвращения на свою истинную родину. Другой вопрос, сознает ли это сам человек, или же он пребывает в блаженном забытьи, чувствуя себя здесь дома и целиком отдавая себя насущным делам и заботам о «дне завтрашнем».
Именно поэтому и не имеет значения тот вопрос, о котором была сказано раньше – происходит ли все в сознании героя или во внешнем мире. Скажем так, второе обусловлено первым, если считать, что не бытие определяет сознания, а все-таки наоборот, вопреки расхожей аксиоме материализма.
Восьмая глава романа весьма подробно раскрывает эту идею, заложенную в самой форме текста, в символике игры «Приглашения на казнь». Недаром роман называется именно так, задавая элемент внутренней игры с самого начала. И недаром перед самой казнью Цинцинната объявляется, что после действа в городском театре будет идти «опера-фарс «Сократись, Сократик» - что подчеркивает бутафорский, хотя и циничный, издевательский характер всего происходящего.
Следует заметить, что вообще этой же идее – двоемирия, отличия главного героя от всех остальных персонажей, служит и прием текста в тексте. Многое мы узнаем от имени самого Цинцинната, как бы от первого лица, из его записей, которые он ведет, находясь в камере. Это тоже весьма символично, так как он – единственный, кто пытается осознать все происходящее, и с самого начала понимает, что все вокруг – ненастоящее. Он говорит об этом не раз своим собеседникам, прямо, в лицо. Их реакция вполне предсказуема – они ничего не замечают, пропускают эти слова мимо ушей, а точнее, мимо сознания.
Хотя нельзя сказать, что окружающие Цинцинната существа наделены сознанием в настоящем значении этого слова. Скорее, они являются наборами неких функций, результирующими нескольких несложных векторов, направленных в сторону сохранения своего неизменного спокойствия и, соответственно, уничтожения того, что это спокойствие нарушает. То есть, здесь мы видим торжество энтропии, когда система, выведенная из равновесия, совершает ряд действий, ведущих к возвращению состоянии равновесия. Каждый исполняет свою роль механически, немыслимый вне этой роли. В принципе, вне этих функций, никто из персонажей, кроме самого Цинцинната, естественно, и не существует. Один секундный проблеск чего-то настоящего, живого, мелькнувший во взгляде матери Цинцинната при их последнем свидании, тотчас же гаснет. И уже на следующий день оборачивается тем, что Марфинька рассказывает Цинциннату - о том, как эта мать приходила к ней и умоляла, чтобы ей написали документ, заверяющий, что «она никогда не бывала у нас и с тобой не видалась».
Так вот, в восьмой главе, начинающейся с какого-то незначительного и к делу не относящегося замечания, Цинциннат пишет о самых важных вещах. То есть именно раскрывает эту идею отношения здешнего, ложного мира, где он чужой и мира настоящего, где его родина. Идут наблюдения и рассуждения о бессмертии человека, его главной, единственно существенной составляющей – сознании, духе. Аллегорически описывается это через мысленное «раздевание» Цинцинната, когда он снимает с себя оболочку за оболочкой, пока не остается «неделимая, твердая, сияющая точка», та самая искра Божья, неуничтожимое и неумирающее в человеке. Здесь возникает аллюзия к эпиграфу романа о мнимой смертности человека, принадлежащему перу Делаланда, который, как утверждал сам Набоков, был выдуман им. Есть, однако, основания считать прототипом Делаланда французского философа Андре Лаланда, считавшего, что глубинный закон действительности – стремление к смерти. Которой, как мы можем видеть из всего произведения Набокова, на самом деле нет. То есть смерть на самом деле является преображением, пробуждением человека к настоящей действительности. Здесь мы видим созвучность идей Набокова, заложенных в «Приглашении на казнь», не только идеям Лаланда, но и восточной, буддистской философии, а так же глубинной философии христианства.
О чем же еще говорит в своих записках из одиночной камеры Цинциннат? О желании «высказаться – всей мировой немоте назло». Он объясняет, что его желание написать, рассказать, выразить то, что происходит внутри вызвано не тщеславием, не сознанием собственной важности и превосходства, а именно необходимостью дать слову жизнь, нарушить вечное молчание косной материи, сообщить ей искру живого огня.
Помимо этого, в восьмой главе Цинциннат рассуждает о смерти, о страхе смерти, насильственного лишения жизни, которое должны произвести другие существа, подобные самому герою. Здесь немаловажен топор, как символ грубой косной силы, и в то же время – орудие рук человеческих, обыденный инструмент для плотницкой работы.
Еще одна сложная и глубокая тема, затрагиваемая автором в этой главе, - тема сновидений. Здесь мы снова сталкиваемся с идеей двух миров, и сны предстают в сознании Цинцинната «корявой копией» того оригинала, где все настоящее, все – игра в лучшем смысле этого слова.
Здесь, не в первый и не в последний раз на протяжении текста, возникает и образ садов. Тамарины сады, в которых в детстве играл Цинциннат, в которых он бродил, влюбленный в Марфиньку, которые он теперь видит так же копией, проекцией садов настоящих. Эти сады воплощают тоску об идеале, смутное воспоминание о духовной родине героя. Само их название обыгрывает несколько раз повторяемое и варьирующееся «там» ностальгии по другому, настоящему миру. В какой-то мере это, конечно, аллюзия на сад Эдема. То первоначальное безгрешное существование, по-детски беззаботное и невинное сквозит в снах, в памяти, и, потерянное здесь, замутненное страхом этого мира, оно снова будет возвращено герою после смерти. Потому и воспринимает он эту смерть как пробуждение. Только страх все равно присутствует, потому что кажется неприятным и неожиданным нарушить эту теплую дремоту души. Хотя, как понимает сам Цинциннат, страх этот даже полезен, как «неистовый отказ выпустить игрушку», и сама смерть неоднократно сравнивается с рождением, которое тоже весьма неожиданно и поначалу пугает.
Сады эти связаны еще и с холмами, символизирующими некую вертикаль, оживляющую горизонтальную плоскость. Холмы эти вносят разнообразие в одномерный равнинный пейзаж. Стоит вспомнить, что в мифологии вершина холма, на которую поднимался герой, символизировала его духовное восхождение, повышение уровня его осознания себя и познания мира.
Здесь же можно рассмотреть и эпизод, в котором герой пошел по воздуху.
Цинциннат Ц. вспоминает случай из детства, когда он с безразличием и даже некоторым отвращением наблюдал за игрой учительницы с детьми. Он сидел на подоконнике, созерцая эти игры в окно и думая о своем, пребывая в своем мире. Сделав несколько шагов по воздуху, герой падает. Отчасти это падение можно объяснить именно тем, что по законам этого мира, ходить по воздуху невозможно. И наступившая в результате нарушения этого закона тишина вывела героя из того состояния, в котором он, «ничего не испытав особенного», просто шел по воздуху. То есть, именно неверие в это хождение окружающих, именно та самая «беззаконность» происходящего в глазах людей, за которую в итоге был осужден Цинциннат, и сделала падение неизбежным.
В этом эпизоде можно увидеть аллюзию к текстам Евангелия и хождению по воде апостола Петра, который, испугавшись собственных шагов, противоречащих законам логики, известным всякому человеку в социуме, начал тонуть.
Еще одна библейская аллюзия в романе – неизвестность происхождения Цинцинната Ц. Никто, даже сама мать героя, не знает, кто был его отцом. Однако в ходе диалога во время их свидания в камере, мимоходом делается предположение, что он был «загулявшим ремесленником, плотником». И этот вскользь и не всерьез брошенный «плотник» отсылает нас к Иосифу. И так же недоговаривая, как бы вскользь, мать его говорит, что он был «тоже, как вы, Цинциннат».
Отдельного замечания заслуживает символика времени в романе. Часы в крепости идут вне какой-либо закономерности, и оказывается, что каждые полчаса стрелки попросту подрисовываются служителями. И это – еще одна важная деталь в общей театральности, фальшивости происходящего с героем. Жизнь в крепости «по крашеным часам», коридоры, по кругу приводящие ко все той же камере, солдаты в масках собак – все это говорит о тотальной бутафории и безысходности внутри этого ложного мира. Кстати, собаки, думаю, выбраны неспроста – как образы песьеголовых мифологических стражей подземного мира, оказывающихся обыкновенными статистами, и как символ обезличенности, стайности этих существ.
Дочь тюремщика, Эммочка, постоянно о чем-то намекает, дает Цинциннату надежду на спасение, обещает помочь бежать. Хотя еще в самом начале, глядя на ее рисунки, он догадывается, что все эти намеки и надежды – плод его воображения. Затем звуки, которые говорят о том, что кто-то ломает стену, роет тоннель – снова надежда и тревога для героя. В итоге ход в стене оказывается проложенным директором тюрьмы и палачом, а Эммочка, выведя Цинцинната на волю, приводит его в дом своего отца и тут же о нем забывает. Все это снова подтверждает, что найти выход в рамках данной системы невозможно, это замкнутый круг, и надежды на спасение внутри этого мира только усугубляют положение заключенного.
Марфинька, возлюбленная и жена Цинцинната Ц. оказывается способной только на блуд и сиюминутные прихоти. Кроме плотских наслаждений – секса, еды и сна, ее, в принципе, ничего не интересует. Мир ее и ее семьи чрезвычайно узок. Это мир, который окружает Цинцинната. И когда его арестовывают, Марфинька по простейшему, первому движению чувства, жалеет его, но сама же свидетельствует против мужа, при этом ничуть не считая себя предателем. Она, как и все остальные члены общества, искренне верит, что исполняет своей долг и делает то, что должна делать. На этом, собственно говоря, и держится энтузиазм и самоуверенность окружающих Цинцинната людей. Марфинька просит мужа покаяться во время их разговора на последнем свидании, но и сама не понимает, в чем. Притом непонимание это чтит как добродетель, уверенная, что если бы понимала, «то и была бы… соучастницей».
Ей, как и прочим вокруг, нет ровно никакого дела до того, что происходит с Цинциннатом. Его предстоящая смерть не пугает их, и вовсе не по причине их бесстрашия. Просто эти существа не в состоянии сопереживать, сострадать, поэтому и смерть другого человека их никак не может трогать. Марфинька приходит на свидание к приговоренному мужу с любовником, с которым они и разговаривают, ее отец ругает Цинцинната за то, что его приговорили к смерти – видимо, потому что это бросает на их семейство тень.
Марфинька вспоминает о «нетках» - бесформенных аляповатых игрушках, которые выпрямлялись и обретали четкие формы в специальных искривленных зеркалах, тогда как обыкновенные предметы отражаясь в этих зеркалах, искажались в своих очертаниях.
Образ этих «неток» и зеркал вновь отсылает нас к философской символике двух миров – ложного и настоящего. Символ зеркала – универсальный символ, отражающий сложные отношения здешнего и потустороннего, и он еще не раз встретится нам в романе.
М-сье Пьер олицетворяет в романе весь тот самоуверенный, добропорядочный и безжизненный обывательский мир, в котором нет места Цинциннату Ц.
На этот образ работает сложная система символов.
Это и внешность м-сье Пьера, с его подчеркнутой аккуратностью, накачанными бицепсами, прячущимися за неуклюжей с виду и полной фигурой, с его румяным и пышущим здоровьем лицом, вечно довольным собой, с готовностью растягивающимся в белозубой улыбке.
Это и его назойливые карточные фокусы, скучные и глупые анекдоты, всегда одни и те же, вежливость в обращении, доходящая порой до сюсюканья, постоянная фамильярность, и все это – с непобедимым чувством собственного превосходства и значительности своей персоны.
Это и фотоальбом, заботливо составленный м-сье Пьером исключительно из собственных фотографий. И фотогороскоп, сделанный им в подарок Эммочке, где фальшиво и искусственно расписана вся ее будущая жизнь до самой смерти.
М-сье Пьер выступает как душа компании, всегда желанный гость на застольях, человек, которого ставят в пример в обществе. Он с неизменным воодушевлением проповедует ценность жизни в обществе, старательно записывая сначала свои речи на бумажках. Он с истинно неуязвимой пошлостью поет дифирамбы вкусной еде, наслаждениям плотской любви и всему прочему, составляющему круг интересов его и всех остальных горожан.
И нет ничего удивительного, что именно он и оказывается палачом, которого так ждал и боялся Цинциннат Ц. И сам директор тюрьмы оказывается всего лишь помощником м-сье Пьера, слепым исполнителем его воли.
А какова воля палача? Оградить систему от нежелательных чужеродных воздействий. И потому так настойчиво, так педантично цепляется м-сье Пьер к исполнению буквы закона. В этих законах, созданных обществом обывателей для соблюдения их же интересов, вся сила м-сье Пьера и его подручных. В законах, да еще в той уверенности в своей правоте, в том, что их взгляд на жизнь – единственно верный и единственно возможный.
Ночная бабочка, пойманная Родионом, может пониматься как символ свободы. Существо, пойманное тюремщиком, принадлежит другому миру, и в этом мире – довольно беспомощно. Однако тюремщик панически боится этой бабочки, и страх его безотчетен.
Отдельно стоит сказать о символике имен в романе.
Имя главного героя намекает на Цинцинната Кезона, обвиненного плебеями в чрезмерной гордости, и вынужденного уйти в изгнание.
М-сье Пьер, названный один раз Петром Петровичем, можно истолковать как символ безличности, необязательности личного имени для такого персонажа.
То же самое относится и к тюремщикам, и к адвокату – их похожие друг на друга, постоянно перетекающие и заменяющие друг друга имена снова говорят нам об искусственности, буффонаде всего происходящего.
В заключение скажем, что в финале романа темы двоемирия, иллюзорности человеческого мира, бессмертия получают свое логическое продолжение.
Незадолго до смерти героя окружающая реальность начинает давать сбои, обнажается ее истинная – декоративная – сущность. После отсечения головы, Цинциннат Ц. встает, и ложный мир вокруг него рушится, уступая место настоящей действительности. Это вызывает ужас среди существ ложного мира, так как для них это нарушение всех порядков и конец их реальности.
Герой возвращается на свою родину, словно бы из зазеркалья, и мы снова вспоминаем образ зеркала из восьмой главы – «то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик»
Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels.
Delalande Discours sur les ombres1
Как безумец полагает, что он Бог, так мы полагаем, что мы смертны. Делаланд. Рассуждение о тенях (фр.).
I
Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота: змея в расселину. Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли? Тюремщик Родион долго отпирал дверь Цинциннатовой камеры, – не тот ключ, – всегдашняя возня. Дверь наконец уступила. Там, на койке, уже ждал адвокат, – сидел, погруженный по плечи в раздумье, без фрака (забытого на венском стуле в зале суда, – был жаркий, насквозь синий день), и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. Все равно, – он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли.
Итак – подбираемся к концу. Правая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакомого чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтенья – и… ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости (самая же последняя непременно – тверденькая, недоспелая). Ужасно! Цинциннат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста. Цинциннат написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал». Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок. Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог.
Ужасно! Родион смотрел в голубой глазок на поднимавшийся и падавший горизонт. Кому становилось тошно? Цинциннату. Вышибло пот, все потемнело, он чувствовал коренек каждого волоска. Пробили часы – четыре или пять раз, и казематный отгул их, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитке паук с потолка – официальный друг заключенных. Но никто в стену не стучал, так как Цинциннат был пока что единственным арестантом (на такую громадную крепость!).
Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы (не те годы, увы, опух, одышка). Их вынесло в коридор. Цинциннат был гораздо меньше своего кавалера. Цинциннат был легок как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие, прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень мал для взрослого мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник, без имени, под ружьем, в песьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока.
Опять с банальной унылостью пробили часы. Время шло в арифметической прогрессии: восемь. Уродливое окошко оказалось доступным закату; сбоку по стене пролег пламенистый параллелограмм. Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержавших необыкновенные пигменты. Так, спрашивается: что это справа от двери – картина ли кисти крутого колориста или другое окно, расписное, каких уже не бывает? (На самом деле это висел пергаментный лист с подробными, в две колонны, «правилами для заключенных»; загнувшийся угол, красные заглавные буквы, заставки, древний герб города – а именно: доменная печь с крыльями – и давали нужный материал вечернему отблеску.) Мебель в камере была представлена столом, стулом, койкой. Уже давно принесенный обед (харчи смертникам полагались директорские) стыл на цинковом подносе. Стемнело совсем. Вдруг разлился золотой, крепко настоянный электрический свет.
Цинциннат спустил ноги с койки. В голове, от затылка к виску, по диагонали, покатился кегельный шар, замер и поехал обратно. Между тем дверь отворилась и вошел директор тюрьмы.
Он был, как всегда, в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину. Идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, – но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе. Через минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомым на этот раз скрежетанием, – и, как всегда в сюртуке, выпятив грудь, вошел он же.
– Узнав из достоверного источника, что нонче решилась ваша судьба, – начал он сдобным басом, – я почел своим долгом, сударь мой…
Цинциннат сказал:
– Любезность. Вы. Очень. – (Это еще нужно расставить.)
– Вы очень любезны, – сказал, прочистив горло, какой-то добавочный Цинциннат.
– Помилуйте, – воскликнул директор, не замечая бестактности слова. – Помилуйте! Долг. Я всегда. А вот почему, смею спросить, вы не притронулись к пище?
Директор снял крышку и поднес к своему чуткому носу миску с застывшим рагу. Двумя пальцами взял картофелину и стал мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другом блюде.
– Не знаю, какие еще вам нужны кушанья, – проговорил он недовольно и, треща манжетами, сел за стол, чтобы удобнее было есть пудинг-кабинет.
Цинциннат сказал:
– Я хотел бы все-таки знать, долго ли теперь.
– Превосходный сабайон! Вы хотели бы все-таки знать, долго ли теперь. К сожалению, я сам не знаю. Меня извещают всегда в последний момент, я много раз жаловался, могу вам показать всю эту переписку, если вас интересует.
– Так что, может быть, в ближайшее утро? – спросил Цинциннат.
– Если вас интересует, – сказал директор. – Да, просто очень вкусно и сытно, вот что я вам доложу. А теперь, pour la digestion2
Для пищеварения (фр.).
Позвольте предложить вам папиросу. Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследняя, – добавил он находчиво.
– Я спрашиваю, – сказал Цинциннат, – я спрашиваю не из любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но уверяю вас… Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, – это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня. Я хочу знать когда – вот почему: смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении, которое могут выносить только живущие на воле. И еще: в голове у меня множество начатых и в разное время прерванных работ… Заниматься ими я просто не стану, если срок до казни все равно недостаточен для их стройного завершения. Вот почему.
– Ах, пожалуйста, не надо бормотать, – нервно сказал директор. – Это, во-первых, против правил, а во-вторых – говорю вам русским языком и повторяю: не знаю. Все, что могу вам сообщить, это что со дня на день ожидается приезд вашего суженого, – а он, когда приедет, да отдохнет, да свыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент, если, однако, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. Табачок-то не крепковат?
– Нет, – ответил Цинциннат, рассеянно посмотрев на свою папиросу. – Но только мне кажется, что по закону – ну не вы, так управляющий городом обязан…
– Потолковали, и будет, – сказал директор, – я, собственно, здесь не для выслушивания жалоб, а для того… – Он, мигая, полез в один карман, в другой; наконец из-за пазухи вытащил линованный листок, явно вырванный из школьной тетради.
– Пепельницы тут нет, – заметил он, поводя папиросой, – что ж, давайте утопим в остатке этого соуса… Так-с. Свет, пожалуй, чуточку режет. Может быть, если… Ну да уж ничего, сойдет.
Он развернул листок и, не надевая роговых очков, а только держа их перед глазами, отчетливо начал читать:
«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры…» Я думаю, нам лучше встать, – озабоченно прервал он самого себя и поднялся со стула.
Цинциннат встал тоже.
«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуют, и ты готовишься к тем непроизвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, – и этого я не забуду никогда, – обставить твое житье в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые дозволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъявлению твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа».
– Вот, – сказал директор, складывая очки. – Это все. Я вас больше не удерживаю. Известите, если что понадобится.
Он сел к столу и начал быстро писать, тем показывая, что аудиенция кончена. Цинциннат вышел.
В коридоре на стене дремала тень Родиона, сгорбившись на теневом табурете, – и лишь мельком, с краю, вспыхнуло несколько рыжих волосков. Далее, у загиба стены, другой стражник, сняв свою форменную маску, утирал рукавом лицо. Цинциннат начал спускаться по лестнице. Каменные ступени были склизки и узки, с неосязаемой спиралью призрачных перил. Дойдя донизу, он пошел опять коридорами. Дверь с надписью на зеркальный выворот: «Канцелярия» – была отпахнута; луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберстила и клокотала: должно быть, в нее свалилась мышь. Миновав еще много дверей, Цинциннат споткнулся, подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей разобранной луны. Пароль в эту ночь был: молчание, – и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Цинцинната, пропуская его, и у всех прочих ворот было то же. Оставив за собой туманную громаду крепости, он заскользил вниз по крутому, росистому дерну, попал на пепельную тропу между скал, пересек дважды, трижды извивы главной дороги, которая, наконец стряхнув последнюю тень крепости, полилась прямее, вольнее, – и по узорному мосту через высохшую речку Цинциннат вошел в город. Поднявшись на изволок и повернув налево по Садовой, он пронесся вдоль седых цветущих кустов. Где-то мелькнуло освещенное окно; за какой-то оградой собака громыхнула цепью, но не залаяла. Ветерок делал все, что мог, чтобы освежить беглецу голую шею. Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамариных Садов. Как он знал эти сады! Там, когда Марфинька была невестой и боялась лягушек, майских жуков… Там, где, бывало, когда все становилось невтерпеж и можно было одному, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами… Зеленое, муравчатое Там, тамошние холмы, томление прудов, тамтатам далекого оркестра… Он повернул по Матюхинской мимо развалин древней фабрики, гордости города, мимо шепчущих лип, мимо празднично настроенных белых дач телеграфных служащих, вечно справляющих чьи-нибудь именины, и вышел на Телеграфную. Оттуда шла в гору узкая улочка, и опять сдержанно зашумели липы. Двое мужчин тихо беседовали во мраке сквера на подразумеваемой скамейке. «А ведь он ошибается», – сказал один. Другой отвечал неразборчиво, и оба вроде как бы вздохнули, естественно смешиваясь с шелестом листвы. Цинциннат выбежал на круглую площадку, где луна сторожила знакомую статую поэта, похожую на снеговую бабу, – голова кубом, слепившиеся ноги, – и, пробежав еще несколько шагов, оказался на своей улице. Справа, на стенах одинаковых домов неодинаково играл лунный рисунок веток, так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, Цинциннат и узнал свой дом. В верхнем этаже окно Марфиньки было темно, но открыто. Дети, должно быть, спали на горбоносом балконе: там белелось что-то. Цинциннат вбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру. Обернулся, но был уже заперт. Ужасно! На столе блестел карандаш. Паук сидел на желтой стене.
– Потушите! – крикнул Цинциннат.
Наблюдавший за ним в глазок выключил свет. Темнота и тишина начали соединяться; но вмешались часы, пробили одиннадцать, подумали и пробили еще один раз, а Цинциннат лежал навзничь и смотрел в темноту, где тихо рассыпались светлые точки, постепенно исчезая. Совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда, только тогда (то есть лежа навзничь на тюремной койке, за полночь, после ужасного, ужасного, я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня) Цинциннат Ц. ясно оценил свое положение.
Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки, появилось, как медальон, лицо Марфиньки: кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими глазами. Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой, сливочной белизны шее была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой. Такой он увидел ее нынче среди публики, когда его подвели к свежепокрашенной скамье подсудимых, на которую он сесть не решился, а стоял рядом, и все-таки измарал в изумрудном руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцев, оставшиеся на спинке скамьи. Он видел их напряженные лбы, он видел ярко-цветные панталоны щеголей, ручные зеркала и переливчатые шали щеголих, – но лица были неясны, – одна только круглоглазая Марфинька из всех зрителей и запомнилась ему. Адвокат и прокурор, оба крашеные и очень похожие друг на друга (закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались), проговорили с виртуозной скоростью те пять тысяч слов, которые полагались каждому. Они говорили вперемежку, и судья, следя за мгновенными репликами, вправо, влево мотал головой, и равномерно мотались все головы, – и только одна Марфинька, слегка повернувшись, неподвижно, как удивленное дитя, уставилась на Цинцинната, стоявшего рядом с ярко-зеленой садовой скамьей. Адвокат, сторонник классической декапитации, выиграл без труда против затейника прокурора, и судья синтезировал дело.
Обрывки этих речей, в которых, как пузыри воды, стремились и лопались слова «прозрачность» и «непроницаемость», теперь звучали у Цинцинната в ушах, и шум крови превращался в рукоплескания, а медальонное лицо Марфиньки все оставалось в поле его зрения и потухло только тогда, когда судья, – приблизившись вплотную, так что можно было различить на его крупном смуглом носу расширенные поры, одна из которых, на самой дуле, выпустила одинокий, но длинный волос, – произнес сырым шепотом: «С любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр», – выработанная законом подставная фраза, истинное значение коей знал всякий школьник.
«А я ведь сработан так тщательно, – думал Цинциннат, плача во мраке. – Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно. Я чувствую в икрах так много туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобна…»
Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину.
II
Утренние газеты, которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион, – местный листок «Доброе утречко» и более серьезный орган «Голос публики», – как всегда, кишели цветными снимками. В первой он нашел фасад своего дома: дети глядят с балкона, тесть глядит из кухонного окна, фотограф глядит из окна Марфиньки; во второй – знакомый вид из этого окна на палисадник с яблоней, отворенной калиткой и фигурой фотографа, снимающего фасад. Он нашел, кроме того, самого себя на двух снимках, изображающих его в кроткой юности.
Цинциннат родился от безвестного прохожего и детство провел в большом общежитии за Стропью (только уже на третьем десятке он познакомился мимоходом со щебечущей, щупленькой, еще такой молодой на вид Цецилией Ц., зачавшей его ночью на Прудах, когда была совсем девочкой). С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов, но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. В разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали, словно почуя, что ясность его взгляда да голубизна висков – лукавый отвод и что в действительности Цинциннат непроницаем. Случалось, учитель среди наступившего молчания, в досадливом недоумении собрав и наморщив все запасы кожи около глаз, долго глядел на него и наконец спрашивал:
– Да что с тобой, Цинциннат?
Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место.
С течением времени безопасных мест становилось все меньше, всюду проникало ласковое солнце публичных забот, и было так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, – как сделал его призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас – и тебя, и меня, и вот его, – делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя…). Цинциннат спокойненько отложил газеты и допил шоколад. Коричневая пенка, покрывавшая шоколадную гладь, превратилась на губе в сморщенную дрянь. Затем Цинциннат надел черный халат, слишком для него длинный, черные туфли с помпонами, черную ермолку – и заходил по камере, как ходил каждое утро, с первого дня заключения.
Детство на загородных газонах. Играли в мяч, в свинью, в карамору, в чехарду, в малину, в тычь… Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимою городские скаты гладко затягивались снегом, и как же славно было мчаться вниз на «стеклянных» сабуровских санках… Как быстро наступала ночь, когда с катанья возвращались домой… Какие звезды, – какая мысль и грусть наверху, – а внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке желтым и красным светом горели съедобные окна; женщины в лисьих шубках поверх шелковых платьев перебегали через улицу из дома в дом; электрические вагонетки, возбуждая на миг сияющую вьюгу, проносились по запорошенным рельсам.
Он не сердился на доносчиков, но те умножались и, мужая, становились страшны. В сущности темный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным. Окружающие понимали друг друга с полуслова, – ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями. В пыльном маленьком музее, на Втором Бульваре, куда его водили в детстве и куда он сам потом водил питомцев, были собраны редкие, прекрасные вещи, – но каждая была для всех горожан, кроме него, так же ограниченна и прозрачна, как и они сами друг для друга. То, что не названо, – не существует. К сожалению, все было названо.
«Бытие безымянное, существенность беспредметная…» – прочел Цинциннат на стене там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену.
«Вечные именинники, мне вас -» – написано было в другом месте.
Левее, почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии: «Обратите внимание, что когда они с вами говорят -» – дальше, увы, было стерто.
Рядом – корявыми детскими буквами: «Писателей буду штрафовать» – и подпись: директор тюрьмы.
Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку: «Смерьте до смерти, – потом будет поздно».
– Меня, во всяком случае, смерили, – сказал Цинциннат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам. – Как мне, однако, не хочется умирать! Душа зарылась в подушку. Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из теплого тела. Не хочется, погодите, дайте еще подремать.
Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать лет было Цинциннату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. По вечерам же упивался старинными книгами под ленивый, пленительный плеск мелкой волны, в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова, утонувшего как раз в том месте городской речки. Бормотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке, плеск, липкая от луны водяная гладь, – и вдали, в черной паутине высокого моста, пробегающие огоньки. Но потом ценные волюмы начали портиться от сырости, так что в конце концов пришлось речку осушить, отведя всю воду в Стропь посредством специально прорытого канала.