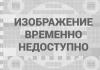Родовое гнездо. Семья Бровкиных в романе «Петр Первый
На обелиске погибшим жителям поселка Нахабино (около стадиона) среди десятков фамилий высечены имена пяти братьев Волковых: Ивана, Андрея, Федора, Николая, Дмитрия. Есть в поселке в мкр Новый городок улица имени Братьев Волковых. На многоэтажном доме №1 этого микрорайона мемориальная доска. На ней высечены имена: Иван Сергеевич, Андрей Сергеевич, Федор Сергеевич, Николай Сергеевич и Дмитрий Сергеевич. Все они погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня, 6 мая, у этого дома проходит митинг памяти братьев, отдавших свои жизни ради мира на земле.

Улица имени Братьев Волковых в поселке Нахабино появилась 14 лет назад. Согласно постановлению главы Нахабинской администрацию от 21 июня 1996 года было решено присвоить это название новой улице мкр Новый городок.
...Большая семья Ксении Никитичны и Сергея Конновича Волковых переехала в Нахабино из города Кимры Калининской области (ныне Тверской) в 20-30-е годы прошлого века. В семье было пять детей: Иван 1912 года рождения, Андрей 1914-го, Федор 1919-го, Николай 1922-го и Дмитрий 1925 года рождения.
Ивана и Андрея Волковых призвали на фронт в первые дни войны. Вскоре от Ивана пришло письмо, в котором он сообщал, что находится под Смоленском. Больше вестей об Иване не было никаких.
Андрей Волков был разведчиком. 1 июня 1943 года, выполняя очередное задание, с группой разведчиков он попал в окружение. Отстреливались до последнего патрона. После войны мать Ксения Никитична получила письмо от товарища сына, который рассказал ей о гибели Андрея.
Великую Отечественную войну Федор Волков встретил будучи на действительной службе в одной из танковых частей Красной армии под Львовом. Перед самой войной Ксения Никитична получила от него письмо. В нем были такие строки «Два месяца мне на действительной осталось. Скоро приеду, мама». Но сбыться этому было не дано: в бою Федор Волков заживо сгорел в танке.
Николая Волкова в армию призвали, когда фашистские захватчики подошли к Истре. Он, как и старший брат Андрей, был разведчиком. После успешного выполнения одного из труднейших заданий командование на сутки отпустило его домой. Однако побывать в Нахабине Николай так и не успел, поступил приказ идти в тыл врага. Из этой разведки он не вернулся…
В начале войны Дмитрию Волкову было 16 лет. Попасть на фронт, помочь братьям в борьбе с фашистами было его главной задачей. Он снова и снова ходил в военкомат, просился в действующую армию. Когда в очередной раз получил отказ, сбежал на фронт. Эшелон, в котором он ехал на фронт, фашисты разбомбили с воздуха.
Все годы войны от братьев не было никаких вестей, но близкие верили, что дети живы, а то, что нет писем, – так ведь идет война.
Первую похоронку – на Андрея, который погиб в бою 1 июня 1943 года, Волковы получили зимой 1945-го. Это стало для Сергея Конновича сокрушительным ударом. Вскоре он умер, наказав жене ждать остальных детей, война вот-вот кончится, и они обязательно вернутся.
После 9 мая, когда бойцы стали возвращаться с фронта, Ксения Никитична ходила на станцию и встречала каждый эшелон, идущий с запада. Лишь осенью 1945 года, в один день, почтальон принес четыре похоронки! В них значилось, что Иван, Федор, Николай и Дмитрий пропали без вести в разные месяцы 1942 года.
Ксения Никитична Волкова, несмотря ни на что, ждала и верила, что найдутся ее сыночки, но не дождалась. Умерла она в 1975 году.
В музее боевой славы нахабинской гимназии №4 есть стенд, рассказывающий о братьях Волковых. Школьники гордятся своими земляками-героями.
Такая вот трагическая история большой нахабинской семьи, только одной семьи из миллионов. Память о солдатах Родины Волковых жива и будет жить.
Е.ИВАНОВА.
P.S.
Традиционно в канун Дня Победы в городском поселении Нахабино прошел открытый турнир по волейболу памяти братьев Волковых.
Женский этап турнира собрал четырех участников. Победителем стала команда «Дедовск», второе место заняла команда КМЗ, третье – «Зоркий» (обе из Красногорска).
В мужском этапе приняло участие восемь команд, четыре из Нахабина. Победа у команды «Пчелки», второе – у КМЗ (оба коллектива из Красногорска), третье место завоевала команда «Нахабино».
Семья Бровкиных в романе
«Петр Первый»
Иван Бровкин,
Алексей Бровкин
И остальные Броквины
Отец - Иван Артемьевич Бровкин. Дети: Алексей, Гаврила, Артамон, Яков, Александра
Семья Бровкиных в романе «Петр Первый»
является иллюстрацией того, как принцип Петра «отныне знатность по годности считать» позволил умным и трудолюбивым людям освободиться от холопской зависимости и высоко подняться по социальной лестнице.
Двор Ивана Артемьевича Бровкина считался зажиточным. У него имелись лошадь, корова, четыре курицы. Но нищета преследовала. На лошади - гнилая сбруя. Старшего сына Алешу пришлось из-за голода и недоимки отдать боярину Василию Волкову в вечную кабалу.
Алеша убегает от хозяина, потому что его «обещались в землю вбить по плечи», становится другом Александра Меншикоиа. Меншиков, вошедший: в доверие к царю, продолжает заботиться об Алеше, однажды приводит его к Петру. Алеша выглядел как степенный юноша, одетый в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки, Алеша показал царю «барабанную ловкость» и был зачислен в первую роту барабанщиком. «Так и в батальоне оказалась у Алек-сашки своя рука». И второй раз Меншиков выручает Алешу, освобождает его от холопской зависимости у Волкова, когда последний неосторожно говорит: «Мне царь не указка!»
Атеша сначала дал отцу три рубля. Иван Бровкин
купил телку (полтора рубля), овцу (тридцать пять копеек), четырех поросят (по три алтына), справил сбрую, поставил новые ворота и у мужиков под яровые снял восемь десятин земли, дав рубль деньгами, ведро водки и обещав пятый сноп урожая. «Стал на ноги человек». Волконский управитель освободил его от барщины. Затем Алеша еще дал денег отцу для постройки мельницы.
Алеша стал своим человеком при Петре. Вскоре он становится старшим бомбардиром, затем - денщиком у Петра. Выполняет поручение Петра по вербовке солдат, участвует в военных сражениях, дослуживается до подполковника.
Для всех членов семьи Бровкиных характерны трудолюбие, упорство, живой ум, желание добиться большего в жизни.
Алеша «...белый офицерский шарф выдрал у судьбы зубами». Свое ротное хозяйство Алексей Бровкин вел строго, солдаты его были сыты, ел из солдатского котла, зря солдат не обижал, но й оплошностей не спускал.
Отец с большим толком использовал и деньги Алеши, и его положение. Сначала стал брать в аренду у Волкова луга и пашню. Скотина Бровкина ходила отдельным стадом, живность он возил в Преображен-ское к царскому столу. Вся деревня кланялась в пояс, все ему были должны, десять мужиков работали у него по кабальным записям. Алеша знакомит отца с Меншиковым, и тот за двести рублей сводит его с Лефортом, от которого он получает грамоту на снабжение войска овсом и сеном.
В походе на Азов он поставил овес и сено без воровства, и Петр передал ему все подряды. Иван Бровкин теперь - главный провиантор для тридцати полков, «скоробогатей». Многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. На Ильинке он построил новый кирпичный дом. Репутация Ивана Бровкина укрепляется и после того, как он предупреждает Ромодановского о походе четырех полков стрельцов на Москву. Свои капиталы Иван Бровкин использует для строительства заводов: суконных, лесопильных н других. Через Меншикова он добился права брать из тюрем Ромодановского колодников на свой заводы.
Неутомимо трудятся все сыновья Ивана Бровкина. Яков служит в Воронеже, он стал штурманом; Гаврила учился в Голландии. Якову и Гавриле Петр поручил строительство Питербурха на участке повыше устья Фонтанки (амбары, причалы, укрепление берега сваями). Когда Петр сам подготовил чертежи бастиона Кроншлота, Яков убедил Петра сделать высоту бастиона выше. Между Гаврилой и царевной Натальей возникает любовь. Артамон знает французский, немецкий, голландский языки, помогает отцу в хозяйственных делах, становится переводчиком в Посольском приказе. Не случайно в начале строительства Питербурха капусту около своих домов вырастили только трое: Меншиков, Алексей Бровкин и Брюс.
Большое место в романе отведено Александре. Меншиков подсказал Петру, что у Алеши сестра - невеста. Петр сосватал Александру за дворянина Василия Волкова. На светских приемах (у Лефорта) она сразу привлекла внимание иноземцев. Она выучила три иностранных языка, играла на арфе, могла «в ночь прочесть книжку». Она изучала историю Пуф-фендорфия, перевод которой написал Артамон. Авантюризм Александры проявился при выезде из Вязьмы, хотя все предупреждали ее о разбойниках. Во время нападения Александра выхватила пистолет из тулупа мужа и выстрелила в разбойника. Это и спасло Волковых. Она оказала благотворное влияние и на мужа, который вслед за ней стал изучать историю. Василий Волков очень серьезно отнесся к своей службе за границей. В Гааге Александра находится при русском после Матвееве. Она сочиняет стихи. «Кавалеры из-за нее на шпагах бьются, и есть убитые». Она собирается ко двору Людовика Четырнадцатого.
Отец заботливо следит за детьми. Он оплачивает содержание яхты Александры, выкупает из плена Алешу.
/ / / Образ Саньки Бровкиной в романе Толстого «Петр Первый»
Санька Бровкина – один из женских образов романа Алексея Толстого « », которым в произведении отводится значительное место.
Внешность этой героини очень выразительна, о чем говорят следующие слова в описании: красивая, пышнотелая, темно-русая коса толщиной в руку, синие глаза с мохнатыми ресницами, приподнятый носик, брови стрелочками, ровные зубки за нежным ртом и яркий румянец на щеках.
Характер Саньки не отличается покладистостью: она огрызается с отцом, не прислушивается к мнению мужа и его советам. Задумав попасть в Париж, Александра сводит всех с ума разговорами о своей идее.
Санька заносчива. Сама недавно вышла из обычной избы, а уже жеманится и строит из себя важную особу перед дочерьми боярина Буйносова. Хотя эта игра быстро наскучивает героине, и она ведет себя естественно и просто.
Александра Ивановна Бровкина – посаженная дочь царя . Она поддерживает его в момент прощания с Лефортом, правда, настолько, насколько это свойственно ее натуре.
Санька легкомысленна и вполне не прочь пококетничать с чужими мужчинами. Она часто вертится перед зеркалом, зная, что красива и многим нравится. И хотя муж ее искренне любит, сама Александра еще не испытывала этих чувств, ее пламенная душа жаждет романтических приключений. Решившись на измену мужу, попадает в скандальную историю и выходит из нее только благодаря все тому же Волкову, терпеливо принимающему поведение жены.
Ее ветреность сказывается не только на чести, но и на жизни. Санька попадает в опасную ситуацию, в руки разбойников. И все потому, что опять ослушалась мужа и поступила по-своему.
Хотя именно здесь и проявляется ее стойкий характер. Решительность Саньки, находчивость и присутствие духа помогают справиться и с разбойниками на дороге.
У Александры Ивановны Бровкиной была одна мечта – потанцевать с европейским королем, и она сбывается на страницах романа. Санька танцует с правителем Польши – Августом. Этот женский обольститель покоряет и ее сердце. Но в минуты душевных метаний перед героиней встают маменькины глаза, и она отвергает любовь Августа.
Санька, наконец-то, понимает, что ее муж – русский посол, и перестает зачарованно вслушиваться в речи шпионки Аталии.
Некоторое время они с мужем живут в Гааге, Санька – обладательница кареты, двухмачтовой яхты и чистокровных лошадей. Правда, эти удовольствия тайно оплачивает ее отец, Иван Артемьевич. Дом Саньки всегда полон гостей, для которых она играет на арфе. И это не может не радовать отца.
Александра Ивановна становится европейской светской дамой, живет по всем принятым обычаям, посылает отцу свой портрет, прося повесить его в столовой. На полотне Санька возлежит на дельфине, в чем мать родила, а лицо все с такой же лукавой улыбкой.
Вот только жизнь на чужбине все же не так и прекрасна, тянет на родину: она признается брату, что хотела бы вдоволь наесться крыжовника и покачаться на качелях. Свое, родное, ничем из души не вырвешь, не затмишь никакой роскошью и положением в обществе.
Так я скучаю в Москве!.. Так бы и полетела за границу… У царицы Прасковьи Федоровны живет француз - учит политесу, он и меня учит. Он рассказывает! (Коротко передохнула.) Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минувет, танцую лучше всех, голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу… Так стало скушно в Москве. Слава богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти…
Боярыня Волкова уехала. Роман Борисович, посидев за столом, велел заложить возок - ехать на службу, в приказ Большого дворца. Ныне всем сказано служить. Будто мало на Москве приказного люда. Дворян посадили скрипеть перьями. А сам весь в дегтю, в табачище, топором тюкает, с мужиками сивуху пьет…
Ох, нехорошо, ох, скушно, - кряхтел князь Роман Борисович, влезая в возок…
У Спасских ворот, в глубоком рву, где надо льдом торчали кое-где сгнившие сваи, Роман Борисович увидел десятка два саней, покрытых рогожами. Понуро стояли худые лошаденки. Мужик на откосе лениво выкалывал пешней примерзший труп стрельца. День был серый. Снег - серый. По Красной площади, по навозным ухабам, брели сермяжные люди, повесив головы. Часы на башне заскрипели, захрипели (а, бывало, били звонко). Скучно стало Роману Борисовичу.
Возок проехал по ветхому мосту в Спасские ворота. В Кремле, как на базаре, люди ходят в шапках. У изгрызанной лошадьми коновязи стоят простые сани… Стеснилось сердце у Романа Борисовича. Опустело место сие, пресветлых очей нет, что вон в том окошечке царском теплились, как лампады во славу Третьего Рима. Скучно!
Роман Борисович остановился у приказного крыльца. Дикого не было, чтобы вынуть князя из возка. Вылез сам. Пошел, отдуваясь, по наружной крытой лестнице. Ступеньки захожены снегом, наплевано. Сверху, едва не толкнув князя, сбежали какие-то человечишки в нагольных полушубках. Задний - пегобородый - нагло царапнул гулящим глазом… Роман Борисович, остановись на пол-лестнице, негодующе стукнул тростью:
Шапку! Шапку ломать надо!
Но крикнул на ветер. Такие-то порядки завелись в Кремле.
В приказе, в низких палатах, - угар от печей, вонь, неметеные полы. За длинными столами, локоть к локтю, писцы царапают перьями. Разогнув спину, один скребет нечесаную башку, другой скребет под мышками. За малыми столами - премудрые крючки-подьячие, - от каждого за версту тянет постным пирогом, - листают тетради, ползают пальцами по челобитным. В грязные окошечки - мутный свет. По повыту, мимо столов, похаживает дьяк-повытчик в очках на рябом носу.
Роман Борисович важно шел по палатам, из повыта в повыт. Дела в приказе Большого дворца было много, и дела путаные: ведали царскую казну, кладовые, золотую и серебряную посуду, собирали таможенные и казацкие деньги и стрелецкую подать, ямские деньги и оброк с дворцовых сел и городов. Разбирались в этом только приказный дьяк да старые повытчики. Новоназначенные бояре сиживали целый день в небольшой, жарко натопленной палате, страдали в тесном немецком платье, глядели сквозь мутные окошечки на опустевший царский дворец, где, бывало, на постельном крыльце, на боярской площадке, хаживали они в собольих шубах, помахивали шелковыми платочками, судили-рядили о высоких делах.
Много страшных дел прошумело на этой площади. Вон с того ветхого, ныне заколоченного крыльца, по преданию, ушел с опричниками из Кремля в Александровскую слободу царь Иван Грозный, чтобы ярость и лютость обратить на великие боярские роды. Рубил головы, на сковородах жег и на колья сажал. Отбирал вотчины. Но бог не попустил вконец боярского разорения. Поднялись великие роды.
Вон из того деревянного терема с медными петухами на луковичной крыше выкинулся проклятый Гришка Отрепьев - другой разоритель преславного боярства русского. Пустыня осталась от московской земли, пожарища, кости человечьи на дорогах, но бог не попустил, - поднялись великие роды.
Ныне опять налезла проза - по грехам нашим… «Э-хе-хе», - скучливо кряхтели бояре в жаркой палате у окошечек. Видно, не мытьем хотят взять - катаньем… Бороды все обрили, служить всем велели, сынов расписали по полкам, по чужим землям… «Э-хе-хе, не попустит боги на этот раз…»
Войдя в палату, Роман Борисович увидел, что опять сегодня поднесли чего-то сверху. Старый князь Мартын Лыков тряс бабьими щеками. Думный дворянин Иван Ендогуров и стольник. Лаврентий Свиньин, запинаясь, читали грамоту. Поднимая головы, только и могли молвить, что: «Ах, ах!»
Князь Роман, сядь послушай, - едва не плача, сказал князь Мартын. - Что же буде-та? Теперь каждый и облает и обесчестит… Одна была управа, и ту отнимают.
Ендогуров и Свиньин сызнова начали читать по окладам царский указ. В нем говорилось, что ему, царю и великому князю и пр., и пр., много докучают князья и бояре, и думные, и московские дворяне челобитными о бесчестье. Такого-то дня подана ему, царю и пр., челобитная от князя Мартына, княж Григорьева, сына Лыкова, в том, что его на постельном крыльце лаяли и бесчестили, и лаял-де и бесчестил его Преображенского полку поручик Олешка Бровкин… Проходя по крыльцу, кричал ему, князю Мартыну: «Что-де смотришь на меня зверообразно , я-де тебе ныне не холоп, ты прежде был князь, а ныне ты - небылица …»
Мальчишка он, мужицкий сын, страдник, - князь Мартын тряс щеками, - тогда-то сгоряча я запамятовал, он хуже мне кричал…
А что же он тебе тогда кричал, князь Мартын? - спросил Роман Борисович.
Ну, чего, чего… Кричал, многие слышали: «Мартынушка-мартышка, плешивый…»
Ай, ай, ай, обидно, - завертел головой Роман Борисович. - А что, - не сын ли это Ивана Артемича, Олешка?
А черт его знает, - чей он сын…
- «Царь и великий князь и пр., - читали далее Ендогуров и Свиньин, - чтобы ему не докучали в такое трудное для государства время, за докуку и себе в досаду повелел на челобитчике, князе Мартыне, выправить десять Рублев и те деньги раздать нищим и ныне челобитные о бесчестье воспретить».
Окончив чтение, покрутили носами. Князь Мартын опять всполохнулся:
Небылица! Потрогай меня, - какая же я небылица? Род наш - от князя Лычко! В тринадцатом веке вышел из Угорской земли Лычко-князь с тремя тысячами копейщиков. И от Лычки - Лыковы пошли и князья Брюхатые, и Таратухины, и Супоневы, и от младшего сына - Буйносовы…
Врешь! Истинную несешь небылицу, князь Мартын! - Роман Борисович всем телом повернулся на лавке, навесив брови, засверкал взором (эх, не босые бы щеки, кривоватый голый рот, - совсем бы страшен был князь Роман)… - Буйносовы от века сидели выше Лыковых. Мы род свой от стольных черниговских князей считаем поименно. А вы, Лыковы, при Иване Грозном сами в родословец себя вписали… Черт его, князя Лычко, видел, как он вышел из Угорской земли…
У князя Мартына глаза стали вращаться, запрыгали мешки под глазами, задрожало, будто плачем, лицо с большой верхней губой.
Буйносовы? Не в Тушине ли, в лагере, тушинский вор вам вотчины-то жаловал?
Оба князя поднялись с лавки, стали оглядывать друг друга от ног до головы. И быть бы лаю и шуму великому - не вступись Ендогуров и Свиньин. Усовестили, успокоили. Вытирая платками лбы и шеи, князья сели по разным лавкам.
Скуки ради думный дворянин Ендогуров рассказывал, о чем болтают бояре в государевой Думе, - руками разводят, бедные: царь со своими советчиками в Воронеже одно только и знает, - денег да денег. Подобрал советчиков, - наши да иноземные купцы, да людишки без роду-племени, да плотники, кузнецы, матросы, вьюноши такие - только что им ноздри не вырваны палачом. Царь их воровские советы слушает. В Воронеже и есть истинная Дума государева. Жалобы со всех городов от посадских и торговых людей так туда и сыплются: нашли своего владыку… И с этим сбродом хотят одолеть турецкого султана. В Москву писал один человек из посольства Прокопия Возницына, из Карловиц: турки-де над воронежским флотом смеются, дальше донского устья он не уйдет, весь сядет на мелях.
Господи, да сидеть нам смирно, зачем нам турков дражнить, - сказал смирный Лаврентий Свиньин. (Троих сыновей его взяли в полки, четвертого - в матросы. Старик скучал.)
Это - как смирно? - проговорил Роман Борисович, грозно раскрыв на него глаза. - Не должен бы ты, Лаврентий, по худости, наперед других встревать в разговор, - первое… (Ударил себя по ляжке.) Как, перед турками, перед татарами - смирно? А для чего мы князя Василия Голицына два раза в Крым посылали?
Князь Мартын, - глядя на печь:
Не у всех вотчины за Воронежем да за Рязанью.
Роман Борисович дернул на него ноздрей, но пренебрег.
В Амстердаме за польскую пшеницу по гульдену за пуд дают. А во Франции - и того дороже. В Польше паны золотом завалились. Поговори с Иваном с Артемичем Бровкиным, он расскажет, где денежки-то лежат… А я по винокурням прошлогодний хлеб Христа ради продал по три копейки с деньгой за пудик… Ведь досадно, мне - рядом: вот - Ворона-река, вот - Дон, и - морем пшеничка моя пошла… Великое дело: сподобил бы нас бог одолеть султана… А ты - смирно!.. Нам бы городишко один в море, Керчь, что ли, бы… И опять: мы, как Третий Рим, - должны мы порадеть о гробе господнем? Али мы совсем уже совесть потеряли?
Султана не одолеем, нет. Зря задираемся, - облегченно сказал князь Мартын. - А что хлеба у нас досыта - и слава тебе, господи. С голода не помрем. Только не гнаться дочерям шлепы навешивать да галант заводить дома…
Помолчав, глядя мимо раздвинутых колен на сучок в полу. Роман Борисович спросил:
Хорошо. Кто же это шлепы на дочерей навешивает?
Конечно, таких дураков, которые еще в Немецкой слободе кофей покупают по два и по три четвертака за фунт, таких никакой мужик не прокормит. - Князь Мартын, косясь на печь, трепетал дряблым подбородком, явно опять нарывался на лай…
Дверь сильно толкнули. В духоту с мороза вскочил круглолицый, с приподнятым носом, румяный офицер, в растрепанном парике и надвинутой на уши небольшой треугольной шляпе. Тяжелые сапоги - ботфорты - и зеленый кафтан с широкими красными обшлагами закиданы снегом. Скакал, видимо, во всю мочь по Москве.
Князь Мартын, увидав офицера, стал разевать - разинул рот: это его обидчик, Преображенский поручик Алексей Бровкин - из царских любимцев.
Бояре, бросайте дела… (Алеша, торопясь, держался за распахнутую дверь.) Франц Яковлевич помирает…
Тряхнул париком, нагло (как все они - безродные выкормки Петровы) сверкнул глазами и понесся - каблуками, шпорами - по гнилым полам приказной избы. Вслед ему косились плешивые повытчики: «Потише бы надо, бесстрашной, здесь не конюшня».
Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками - датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капало с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах. Разгорячаясь все более, поднимал кубок из кокосового ореха и пил за братский союз царя Петра с королем датским и курфюрстом бранденбургским. Перед окнами двенадцать пушек на ярко-зеленых лафетах враз (когда мажордом у окна взмахивал платком) ударяли громовым салютом. Клубы белого порохового дыма застилали солнечное небо.
Лефорт откидывался на золоченом стульчике, широко раскрывал глаза, завитки парика прилипали к побледневшим щекам:
Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам… Рыбою одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей засеем хоть тысячи верст. А дикое поле - южные степи, где в траве скрывается всадник! Выбьем оттуда татар, - скота у нас будет как звезд на небе. Железо нам нужно? - руда под ногами. На Урале - горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас? Позовем англичан, голландцев. Своих заставим. Не оглянетесь - будут у нас всякие мануфактуры. Наукам и искусствам посадских людей обучим. Купца, промышленника вознесем, как и не чаяли.
Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланникам. От вина и его речей пришли они в изумление. В зальце было душно. Лефорт велел мажордому раскрыть оба окна и с удовольствием втягивал ноздрями талый, холодный воздух. До вечерней зари он осушал чаши за великие прожекты. Вечером поехал к польскому послу и там танцевал и пил до утра.
На другой день Франц Яковлевич, против обыкновения, почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог, - зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Он нюхал мочу и мокроты, цыкал языком, скреб нос. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство.
Пастор Штрумпф (вслед за служкой, звонящим в колокольчик), держа над головой дары, с трудом протискивался в большом зале. Лефортов дворец гудел голосами, - съезжалась вся Москва. Хлопали двери, дули сквозняки. Суетились потерянные слуги, иные уже пьяные. Жена Лефорта, Елизавета Францевна, встретила пастора у дверей в мужнину спальню, - увядшее лицо - в красных пятнах, унылый нос - исплакан. Малиновое платье кое-как зашнуровано, жиденькие прядки волос висели из-под парика. Адмиральша была до смерти напугана, видя столько подъезжающих знатных особ. По-русски она почти не говорила, всю жизнь провела в задних комнатах. Суя сложенные ладони в грудь пастору, шептала по-немецки:
Что я буду делать? Такое множество гостей… Господин пастор Штрумпф, посоветуйте мне - может быть, подать легкую закуску? Все слуги - как сумасшедшие, никто меня не слушает. Ключи от кладовых под подушкой у бедного Франца. (Слезы полились из бледно-желтых глаз адмиральши, она стала шарить за лифом, вытащила мокрый платок, уткнулась в него.) Господин пастор Штрумпф, я боюсь выходить в зало, я так всегда теряюсь… Что будет, что будет, пастор Штрумпф?
Пастор приличным случаю баском сказал адмиральше утешительные слова. Провел ладонью по сизообритому лицу, согнал с него земную суету и вошел в опочивальню.
Лефорт лежал на широкой измятой постели. Туловище его было приподнято на подушках. Щетина отросла на впавших щеках и на высоком черепе. Он дышал часто, со свистом, выпячивая желтые ключицы, будто все еще пытался влезть, как в хомут, в жизнь. Открытый рот запекся от жара. Жили одни глаза - черные, неподвижные.
Лекарь Поликоло отвел в сторону пастора Штрумпфа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами.
Сухие жиды, - сказал он, - коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом, в сем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каждой минутой притекает к телу по все более узким канальцам, и надо ждать полного закрытия оных мокротами.
Пастор Штрумпф тихо сел у изголовья умирающего. Лефорт недавно очнулся от бреда и беспамятства и о чем-то заметно беспокоился. Услышав свое имя, он с усилием перевел было глаза на пастора и опять стал глядеть туда, где в камине дымило серое полено. Там, над каминными завитками, лежал Нептун - бог морей - с трезубцем, под локтем его из золоченой вазы лилась золотая вода, разбегаясь золотыми завитками. Посредине, в черной дыре, дымило полено.
Штрумпф, стараясь отвратить взор адмирала к распятию, говорил о надежде на вечное спасение, в коем не отказано никому из живущих… Лефорт что-то пробормотал невнятно. Штрумпф нагнулся к лиловым губам его. Лефорт - сквозь частое дыхание:
Много не говори…
Все же пастор исполнил свой долг: дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях. Поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями, с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:
Позови музыкантов… Друзей… Чаши…
На цыпочках вошли музыканты, - неодетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам и на шестидесяти рогах - серебряных, медных и деревянных - заиграли менуэт, роскошный танец.
Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки, - вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть.
Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти - Кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели: приворотным зельем опаивал он царя Петра, - да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо - Лефортов дворец…
Рассказывали: помирая, Лефорт приказал музыкантам играть, шутам скакать, плясицам плясать, и сам - зеленый, трупный - сорвался с постели, дай заскакал… А во дворце на чердаке как завоет, засвищет нечистая сила!..
Семь дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. Четыре офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, четыре - внизу, у помоста. Вдова в скорбном платье сидела внизу перед помостом на раскладном стуле.
Бояре всходили на помост, свернув нос и губы в сторону, - чтобы не опоганиться, - касались щекой синей руки чертова адмирала. Потом, подойдя к вдове, - поясной поклон: пальцами до полу, и - прочь со двора…
На восьмой день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его, - шестерней - Пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Разномастные лошади с трудом поводили мокрыми ребрами. Из-за полости высунулась рука, - шарила ремень - отстегнуть.
Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова, на крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.
Отъезжай с клячами, ну, чего стал на дороге, - сказала она царскому кучеру.
Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из возка полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках. Вылез, высокий: Санька, глядя на него, задрала голову… Кругловатое лицо - осунувшееся, глаза - припухшие, темные усики - торчком. Батюшки, - царь!..
Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись. Узнал посаженную дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта. Сказал глухо:
Горе, горе… - И пошел во дворец, размахивая рукавами тулупа. Санька - за ним.
Вдова на стуле, увидев царя, обомлела. Сорвалась. Хотела пасть в ноги. Петр обнял ее, прижал, поверх ее головы, глядел на гроб. Подбежали слуги. Сняли с него тулуп. Петр косолапо, в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик, и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном, затылок натянулся.
У Саньки, глядевшей на его спину, глаза раскисли от слез, - подпершись по-бабьи, тихо, тонко выла. Так жалела, так чего-то жалела… Он пошел с помоста, сопя, как маленький. Остановился перед Санькой. Она горько закивала ему.
Другого такого друга не будет, - сказал он. (Схватился за глаза, затряс темными, слежавшимися за дорогу, кудреватыми волосами.) - Радость - вместе и заботы - вместе. Думали одним умом… - Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В зало входили, торопливо крестясь, бояре - человек десять.
По месту - старшие первыми - они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи.
Петр ни одного на них не поднял, не обнял, не кивнул даже, - стоял чужой, надменный. Раздувались крылья короткого носа.
Рады, рады, вижу! - сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок.
Этой осенью в Немецкой слободе, рядом с лютеранской киркой, выстроили кирпичный дом по голландскому образцу, в восемь окон на улицу. Строил приказ Большого дворца, торопливо - в два месяца. В дом переехала Анна Ивановна Монс с матерью и младшим братом Виллимом.
Сюда, не скрываясь, ездил царь и часто оставался ночевать. На Кукуе (да и в Москве) так этот дом и называли - царицын дворец… Анна Ивановна завела важный обычай: мажордома и слуг в ливреях, на конюшне - два шестерика дорогих польских коней, кареты на все случаи.
К Монсам, как прежде бывало, не завернешь на огонек аустерии - выпить кружку пива. «Хе-хе, - вспоминали немцы, - давно ли синеглазая Анхен в чистеньком передничке разносила по столам кружки, краснела, как шиповник, когда кто-нибудь из добряков, похлопав ее по девичьему задку, говорил: „Ну-ка, рыбка, схлебни пену, тебе цветочки, мне пиво…“
Теперь у Монсов бывали из кукуйских слобожан лишь почтенные люди торговых и мануфактурных дел, и то по приглашению, - в праздники, к обеду. Шутили, конечно, но пристойно. Всегда по правую руку Анхен сидел пастор Штрумпф. Он любил рассказывать что-нибудь забавное или поучительное из римской истории. Полнокровные гости задумчиво кивали кружками с пивом, приятно вздыхали о бренности. Анна Ивановна в особенности добивалась приличия в доме.
За эти годы она налилась, красотой: в походке - важность, во взгляде - покой, благонравие и печаль. Что там ни говори, как ни кланяйся низко вслед ее стеклянной карете, - царь приезжал к ней спать, только. Ну, а дальше что? Из Поместного приказа жалованы были Анне Ивановне деревеньки. На балы могла она убирать себя драгоценностями не хуже других, и на грудь вешала портрет Петра Алексеевича, величиной в малое блюдце, в алмазах. Нужды, отказа ни в чем не было. А дальше дело задерживалось.
Время шло. Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от южного моря к северному. Анна Ивановна слала ему письмеца, и - при каждом случае - цитронов, апельсинов по полдюжине (доставленных из Риги), колбасы с кардамоном, настоечки на травах. Но разве письмецами да посылками долго удержишь любовника? Ну, как привяжется к нему баба какая-нибудь, въестся в сердце? Ночь без сна ворочалась на перине. Все непрочно, смутно, двоесмысленно. Враги, враги кругом - только и ждут, когда Монсиха споткнется.
Даже самый близкий друг - Лефорт, - едва Анна Ивановна околицами заводила разговор - долго ли Питеру жить в неряшестве, по-холостецки, - усмехался: неопределенно, - нежно щипал Анхен за щечку: «Обещанного три года ждут…» Ах, никто не понимал: даже не царского трона, не власти хотела бы Анна Ивановна, - власть беспокойна, ненадежна… Нет, только прочности, опрятности, приличия…
Оставалось одно средство - приворот, ворожба. По совету матери, Анна Ивановна однажды, вставши с постели от спящего крепко Петра, зашила ему в край камзола тряпочку маленькую со своей кровью… Он уехал в Воронеж, камзол оставил в Преображенском, с тех пор ни разу не надевал. Старая Монсиха приваживала в задние комнаты баб-ворожей. Но открыться им - на кого ворожить - боялись и мать и дочь. За колдовство князь-кесарь Ромодановский вздергивал на дыбу.
Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну простой человек (с достатком), - ах, променяла бы все на безмятежную жизнь. Чистенький домик, - пусть без мажордома, - солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках, пахнет из кухни жареным кофе, навевая успокоение, звякает колокол на кирке, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна за рукодельем…
Со смертью Лефорта будто черная туча легла на голову Анны Ивановны. Она столько плакала за эти семь дней (до приезда Питера), что старая Монсиха велела привезти лекаря Поликоло. Тот приказал промывательное и очистительное, чтобы удалить излишние мокроты, появившиеся в крови вследствие огорчения. Анна Ивановна - сама хорошенько не понимая почему - с ужасом ожидала приезда Питера. Вспоминалось его землистое лицо со щекой, раздутой от зубной боли, когда он после самой страшной из стрелецких казней сидел у Лефорта. В расширенных глазах застыл гнев. Красные от мороза руки лежали перед пустой тарелкой. Не ел, не слушал застольных шуток. (Шутили, стуча зубами.) Не глядя ни на кого, заговорил непонятно:
Не четыре полка, их - легион… На плахи ложились - все крестились двумя перстами… За старину, за нищенство… Чтобы наготовАть и юродствовать… Посадские люди! Не с Азова надо было начинать, - с Москвы!
По сей день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера в то время. Чувствовала, в жестокие тревоги толкает ее от тихого окна этот мучительный человек… Зачем? Уж не антихрист ли и вправду он, как шепчут русские? По вечерам в постели, при кротком свете восковой свечи, Анна Ивановна, ломая руки, плакала отчаянно:
Мама, мама, что я сделаю с собой? Я не люблю его. Он придет - нетерпеливый… Я - мертвая… Может быть, мне лучше лежать в гробу, как бедному Францу.
Неприбранная, с припухшими веками, неожиданно утром она увидела в окно, как за изгородью на ухабистой улице остановился царский возок. Не засуетилась на этот раз: пусть - какая есть, - в чепце, в шерстяной шали. Идя через садик, Петр тоже увидел ее в окошке, покивал без улыбки. В сенях вытер о коврик ноги. Трезвый, смирный.
Здравствуй, Аннушка, - сказал мягко. Поцеловал в лоб. - Осиротели мы. - Сел у стены, около стенных часов, медленно качавших смеющимся медным лицом на маятнике. Говорил вполголоса, будто дивясь, что смерть так неразумно оплошала. - Франц, Франц… Плохим был адмиралом, а стоил целого флота. Это - горе, это - горе, Аннушка… Помнишь, как в первый раз привел меня к тебе, ты еще девочка была - испугалась, как бы я не сломал музыкальный ящик… Не того смерть унесла… Нет Франца! - непонятно…
Анна Ивановна слушала, - закрылась до самых глаз пуховой шалью. Не приготовилась - не знала, что ответить. Слезы ползли под шаль. За дверью осторожно позвякивали посудой. Всхлипнув носом, полным слез, пробормотала, что Францу, наверно, хорошо сейчас у бога. Петр странновато взглянул на нее…
Питер, вы ничего не ели с дороги, прошу вас остаться откушать. Как раз сегодня ваши любимые поджаренные колбаски…
С тоской видела, что и колбаски его не прельстили. Присела рядом, взяла его руку, пахнущую овчиной, стала целовать. Он другой рукой погладил ей волосы под чепцом:
Вечерком заеду на часок… Ну, будет тебе, будет, - всю руку замочила… Поди принеси колбаску, чарку водки… Поди, поди… А то мне дела много сегодня…
Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. За колесницей цугом (в шестнадцать вороных коней) несли на подушках шляпу, шпагу и шпоры адмирала. Ехал всадник в черных латах и перьях, держа опрокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье. За ними - бояре, окольничие, думные и московские дворяне - до тысячи человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев.
Не видя поблизости царя, кое-кто из бояр понемногу рысью опережал иноземных послов, чтобы первым быть в шествии. Послы пожимали плечами, перешептывались. У кладбища их совсем оттерли. Роман Борисович Буйносов и весьма глупый князь Степан Белосельский брели у самых колес, держась за колесницу. Многие русские были навеселе: собрались к выносу чуть свет, подвело животы, не дожидаясь поминок, потеснились у столов, уставленных блюдами с холодной едой, поели и выпили.
Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича:
Почему они вперед послов пролезли? Кто велел?
Я уж срамил, лаял, не слушают, - тихо ответил Лев Кириллович.
Собаки! (И - громче.) Собаки, не люди! - Дернул шеей, завертел головой, лягнул ботфортом. Послы и посланники протискивались сквозь раздавшуюся толпу бояр к могиле, где один, около открытого гроба, чужой всем, озябший, в суконном кафтанишке, стоял царь. Все со страхом глядели, что он еще выкинет. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.
Закрывай… Опускай…
Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить, - огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:
«Чертушку похоронили, а другой остался, - видно, еще мало людей перевел».
Торговых и промысловых дел добрые люди, оставя сани за воротами и сняв шапки, поднимались по длинной - едва не от середины двора - крытой лестнице в Преображенский дворец. Гости и купцы гостиной сотни приезжали на тройках, в ковровых санях, - входили, не робея, в лисьих, в пупковых шубах гамбургского сукна. Обветшалая палата была плохо топлена. Бойко поглядывая на прогнувшийся щелястый потолок, на траченное молью алое сукно на лавках и дверях, говорили:
Строеньице-то - не ахти… Она и видна боярская-то забота. Жалко, жалко…
Собрали сюда торговых людей наспех, по именным спискам. Кое-кто не приехал, боясь, как бы не заставили есть из никонианской посуды и курить табак. Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан великий указ: «Известно государю учинилось, что гостям и гостиныя сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах чинятся большие убытки и разорение … Милосердуя, он, государь, об них указал: во всяких их расправных, судных и челобитных, и купецких делах, и в сборах государственных доходов - ведать бурмистрам их и в бурмистры выбирать им меж себя погодно добрых и правдивых людей, - кого они меж себя похотят. А из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом… В городах, в посадах и слободах указано ж выбирать для суда и расправы и сбора окладных податей земских бурмистров из лучших и правдивых людей, а для сбора таможенных пошлин и питейных доходов выбирать таможенных и кабацких бурмистров - кого похотят. Бурмистрам думать и торговыми и окладными делами ведать в особой Бурмистерской палате, и ей со спорами и челобитными входить - мимо приказов - к одному государю.
Род внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии по определению Казанского дворянского депутатского собрания от 21.12.1820, утвержден указом Герольдии от 31.08.1843.
1 Николай Васильевич, родился в 1765 (?), из дворян, в 1788 - капрал, штабс-капитан, в 1798 - надзиратель Первой Казанской мужской гимназии, в 1804 - коллежский асессор, в 1808 - надворный советник, в 1812 - адъютант начальника 1-го Казанского военного ополчения, в 1814 уволен по расформированию ополчения, коллежский советник, проживает в д. Шихазда Казанского у., женат на воспитаннице прапорщика Григория Семенова (?), за ним в г. Казани деревянный дом, в д. Шихазда Казанского у. 30 душ крестьян, за женой 47 душ крестьян.
1/1 Татьяна Николаевна, родилась в 1806 (?).
1/2 Мария Николаевна, родилась в 1807 (?).
1/3 Николай Николаевич, родился в 1811 (?), штабс-капитан, кандидат на должность заседателя дворянской опеки, за ним совместно с братом Петром в д. Шихазда Казанского у. 61 душа крестьян и 489 дес. земли.
1/4 Василий Николаевич, родился в 1812 (?).
1/5 Авдотья Николаевна, родилась в 1814 (?).
1/6 Александра Николаевна, родилась в 1815 (?).
1/7 Петр Николаевич, родился в 1819 (?), подполковник.
1/8 Надежда Николаевна, родилась 26.08.1825.
1/9 Глафира Николаевна, родилась 16.07.1827, за ней в д. Шихазда Казанского у. 18 душ крестьян и 65 дес. земли.
Основание: Алфавитный список...- С.18; ОРРК НБЛ КГУ. Ед.хр.402. Ч.З. Т.1.Л.69-69 об.; НА РТ. Ф.114. Оп.1. Д.744. Л.35 об.; Ф.350. Оп.1. Д.1167. Л.17 об., 199 об.-200, Оп.2. Д.85. Л.153 об., Д.395. Л.91-96 об.; Ф.407. Оп.1. Д.47. Л.4 об., Д.50а. Л.З об., Д.57. Л.5 об., Д.61. Л.4 об., Д.70. Л.4 об., Д.78. Л.4 об., Д.110. Л.4 об., Д.126. Л.4 об., ДЛ41. Л.4 об., Д.206. Л.4 об., Д.210. Л.З об., 4 об., Д.234. Л.4 об., Д.239. Л.4 об.
Волковы
Род внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии по определениям Казанского дворянского депутатского собрания от 28.12.1811, 29.10.1851, утвержден указом Герольдии от 05.03.1853.
1 Федор (Феодор) Иванович, родился в 1769 (?), из дворян, штаб-лекарь, в 1811 - акушер в Казанской врачебной управе, надворный советник, в 1825-1828 - казанский уездный предводитель дворянства, перевел на татарский язык книгу об оспопрививании, издал на свои средства и пожертвовал в пользу Казанского приказа общественного призрения, проживает в г. Казани, женат, за ним по 5-й ревизии 6 душ крестьян.
1/1 Сергей Федорович, родился в 1808 в с. Уланове Свияжского у., окончил философский факультет Казанского университета, в 1827 - канцелярский служитель, в 1843 - статский советник, чиновник Казанской губернской почтовой конторы, в 1847 - свияжский уездный предводитель дворянства, женат на дочери подполковника Елизавете Александровне Берстель лютеранского вероисповедания, брак заключен 11.06.1834 в Почтамтской церкви г. С.-Петербурга, за ним в г. Казани каменный дом, в д. Собакино Казанского у. родовых 131 душа муж. пола и приобретенных 4 души крестьян, за женой в Казанской губ. приобретенных 6 душ крестьян, умер 01.10.1847.
1/2 Дмитрий Федорович, родился в 1808 (?).
1/3 Петр Федорович, родился в 1811 (?).
1/1/1 Марья Сергеевна, родилась 11.05.1835.
1/1/2 Ольга Сергеевна, родилась 08.02.1840, крещена в церкви Дмитрия Селунского у Тверских ворот Никитского собора г. Москвы.
1/1/3 Юлия Сергеевна, родилась 01.03.1842, крещена в Пятницкой церкви г. Казани
1/1/4 Сергей Сергеевич, родился 28.03.1843, крещен в Покровской церкви г. Казани, женат на Екатерине Матвеевне.
1/1/5 Константин Сергеевич, родился 02.08.1846, крещен в Покровской церкви г. Казани.
1/1/6 Владимир Сергеевич, родился 17.05.1848. 1/1/4/1 Мария Сергеевна, родилась 12.01.1874.
1/1/4/2 Наталья Сергеевна, родилась 28.11.1879. 1/1/4/3 Сергей Сергеевич, родился 09.01.1883.
1/1/4/4 Екатерина Сергеевна, родилась 01.02.1890.
Основание: Алфавитный список...- С.18; ОРРК НБЛ КГУ. Ед.хр.402. Ч.З. Т. 1. Л.67-68 об.; НА РТ. Ф.350. Оп.2. Д.30. Л.114-115, Д.442. Л.37-37 об.; Ф.407. Оп.1. Д.659. Л.191 об.-193; Ф.897. Оп.1. Д.5. Л.22.
Волковы
Род внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии по определениям Казанского дворянского депутатского собрания от 08.08.1788, 31.10.1791.
1 Самсон Иванович, родился в 1737 (?), из дворян, в 1781 - надворный советник в ранге сухопутного полковника, советник Казанской палаты гражданского суда, проживает в г. Казани, женат на дочери купца Марии Степановне (Степановой), за ним в г. Казани дом, купленных 4 муж. и 4 жен. пола души крестьян.
1/1 Павел Самсонович, родился в 1771 (?), подпрапорщик.
1/2 Гаврила Самсонович, родился в 1773 (?), подпрапорщик.
1/3 Александр Самсонович, родился в 1775 (?), подпрапорщик.
1/4 Елизавета Самсоновна, родилась в 1777 (?).
Основание: НА РТ. Ф.350. Оп.2. Д.390. Л.11-13 об.; Ф.407. Оп.1. Д.659. Л.186 об.-187.
Волковы
Род внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Казанской губернии по определению Казанского дворянского депутатского собрания от 26.06.1795.
1 Иван Максимович, родился (?), из смоленских шляхтичей, коллежский советник, советник Казанской палаты уголовного суда, проживает в г. Казани, женат, за ним 12 душ крестьян по 4-й ревизии.
1/1 Дмитрий Иванович, родился (?).
1/2 Петр Иванович, родился (?).
Основание: НА РТ. Ф.350. Оп.2. Д.407. Л.39 об.-41.